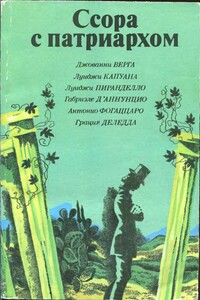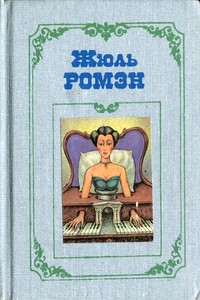Площадь Диамант | страница 62
Выйду из дому и бреду по улицам, днем они были жалкие, грязные, вечером — темные, синие. Я вся в черном, а лицо белым мучнистым пятном, оно у меня стало с кулачок… Грисельда пришла, чтобы выразить соболезнование, так и сказала. Туфли у нее под змеиную кожу, и сумочка — такая же, а платье белое с красными цветочками. Сказала, что Матеу ей пишет и что они остались друзьями из-за девочки, но у каждого теперь — своя жизнь. Я, говорит, поверить не могу, что Кимет и Синто, такие молодые, здоровые, погибли. Грисельда стала еще красивее и наряднее. Кожа белая-белая, а глаза еще прозрачнее, точно в них зеленая вода. И еще больше в ней спокойствия, еще больше похожа на цветы, которые к ночи закрываются, засыпают. Я сказала, что Антони в интернате, а она посмотрела на меня глазами зелеными, как мята, и говорит: жаль мальчика, пугать не хочу, но в этих интернатах детям очень плохо.
Что да, то да! Грисельда знала, что говорила: в интернате было так, что хуже нельзя. Когда пришел срок забирать мальчика, за ним поехала Джульета. Господи! Это был не мой сын. Ну, подменили ребенка! Весь распухший, животик вздутый, личико отекшее, а ножки — две палочки… Черный от солнца, бритый наголо, голова в струпьях, и на шее железки с орех. В мою сторону даже не глянул, а дома прямо из дверей к своим игрушкам, водит по ним пальчиком осторожно, тихонечко, как я тогда по лапке голубя в крапинку. И Рита ему сразу про игрушки, вот, смотри, ни одной не сломала! Оба игрушками занялись, а мы с Джульетой сидим, уставились друг на друга и молчим. Вдруг Рита — нашего папочку на войне убили, и всех на войне убьют, война, она чтобы людей убивать. Ты, спрашивает, там слышал, как сирены воют?..
Джульета перед уходом обещала достать молока и консервов. А в тот вечер у нас на ужин была одна-единственная сардина и подгнивший помидор. Держи мы кошку, ей бы ни одной рыбьей косточки не видать.
И спали все вместе. Я посередке, а дети по обе стороны. Погибать — так всем сразу. Ночью завоет сирена, а мы хоть бы что. Замрем, сожмемся и слушаем. После отбоя, когда засыпали, когда нет, толком не знали, спим — не спим, потому что молчали, никаких у нас разговоров.
Тяжелее всего было в последнюю зиму, на фронт брали шестнадцатилетних — совсем еще дети. Все стены в плакатах. Помню, нас с сеньорой Энрикетой сперва смешил один плакат, где всех звали делать танки. Где нам понять, к чему эти танки, зато потом стало не до смеху. Прямо на улицах обучали солдат, там и мальчишки и пожилые, все подряд. Все на войну, и молодые и старые, без разбору. А война из них все жизненные соки вытягивала, губила насмерть. Столько кругом слез, столько горя и у тебя и у людей! Иногда я вспоминала Матеу, вижу как наяву: стоит в моей прихожей, даже страшно, такой несчастный, глаза синие, по своей Грисельде помирает, а она все равно бросила его. И голос запомнился, когда он говорил, что всем надо идти на фронт. Вот и попались, как мыши в мышеловку. Матеу говорил, что иначе нельзя! Иначе нельзя!..