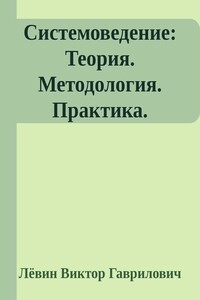Опыт философской антропологии | страница 105
Правда, Камю обнаруживает весьма досадную непоследовательность, когда пишет: «Убийство — исключительно и поэтому никак не может быть использовано; его нельзя возвести в систему… Оно — тот предел, которого можно достичь лишь единожды и вслед за тем умереть. У бунтовщика есть всего одна возможность примириться с актом убийства, уж коли он на него решился: принять свою собственную смерть, самому стать жертвой» (Камю 1990: 338). Надо полагать, в роли палача выступит господин.
Известно, что философ был противником смертной казни, и это делает ему честь. Однако в данном фрагменте Камю изменяет собственным убеждениям, он фактически требует смертной казни для раба, убившего господина. Тем самым, к сожалению, писатель санкционирует господский террор.
Для сравнения, позиция Вл. Соловьева более устойчива. Он считает, что смертная казнь бесчеловечна и представляет собой разновидность убийства. В убийстве возмутительно прежде всего то, что один человек говорит другому: ты для меня ничто, я не признаю за тобою никакого значения, никакого права, даже права на существование, — и доказывает это на деле. Но ведь именно так и поступает государство по отношению к преступнику, и притом без всяких смягчающих обстоятельств: без страсти, без порочных инстинктов, без душевного расстройства. Виновна, но заслуживает снисхождения фанатичная толпа, которая под влиянием безотчетного негодования убивает преступника на месте; но общество, которое делает это медленно, хладнокровно, отчетливо, не имеет извинения, утверждает Соловьев (1989: 176–180).
Следуя логике Вл. Соловьева, можно сказать: виновен, но заслуживает снисхождения бунтующий человек, который в состоянии великого гнева убивает хозяина за все его издевательства; но общество господ, которое делает это осознанно и постоянно, не имеет извинения.
Что касается А. Камю, то несмотря на свое категорическое неприятие убийства и смертной казни, он устанавливает абсурдное исключение для раба, убившего своего господина. Для такого бунтовщика он требует смерти, хотя его аргумент — мятежник «убивает и умирает ради того, чтобы было ясно, что убийство невозможно» (Камю 1990: 338) — ничего не доказывает. Тем самым философ волей-неволей освящает известную практику господ: практику казней и полицейского террора. Философ фактически рекомендует действовать по lex talionis: око за око, кровь за кровь.
Но господа идут еще дальше. Они карают не только любой видимый протест, но и всякое суверенное мышление рабов, которое квалифицируется как самый настоящий бунт. В «Падении» Камю приводит рассказ об одном восхитительном русском помещике. Он приказывал кучеру стегать кнутом и тех своих крепостных, которые кланялись ему при встрече, и тех, которые не кланялись, наказывая и тех и других «за дерзость» (Камю 1990а: 391). С точки зрения хозяина, самостоятельная воля холопа есть нонсенс, она опасна и недопустима. Этому господину не откажешь в понимании своего значения и положения.