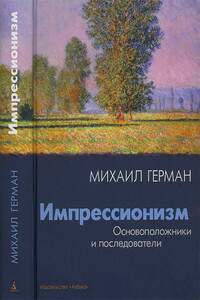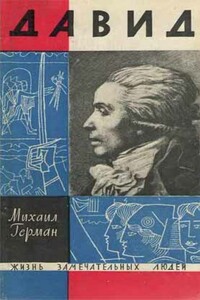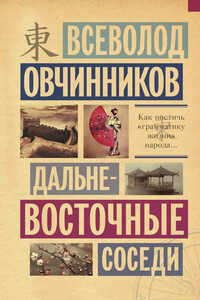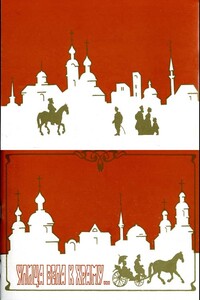В поисках Парижа, или Вечное возвращение | страница 80
А утром за окнами – было воскресенье – светлая пасмурная тишина, сонные стерильные домики на пластмассово-гладких лужайках, тяжелые, блестящие росой и собственным лаком лимузины у дверей, низкие изгороди, просторная комфортабельная тишина часто мелькающих гигантских вокзалов, опрятные железнодорожники с массой нашивок и галунов и бодрыми лицами аппетитно позавтракавших людей без комплексов, пестрые киоски, богатые и привлекательные, как наши магазины «Березка», на пустынных платформах… А потом еще грозное великолепие Кёльнского собора за мостом через Рейн, колючие башни, тяжко рвущиеся в низкие облака, и снова города, городки, дома уже перестающей удивлять Европы.
Бельгийский жандарм, ехавший почему-то в нашем вагоне несколько станций, так и не смог показать мне, где кончается Бельгия и начинается Франция, и очень по этому поводу смеялся. Деревни, похожие на аккуратно нарезанные ломти больших каменных городов, бешеная скорость, бесстыковой путь, никакой тряски, нежданно высунувшиеся облупленные дома с мансардами, красные тенты, запах угля, вокзала, дыма, Париж, Гар-дю-Нор.
Странна и одинока была тогдашняя моя парижская жизнь. Формальное приглашение я получил от все того же Константина Клуге, уступившего настойчивым просьбам моих французских знакомых. Они же меня и приютили, поскольку охладевшему ко мне и недавно опять женившемуся дядюшке было решительно не до меня. Волею случая первые полтора месяца я прожил на том же бульваре Сен-Мишель, где пять лет назад останавливался у дяди, только по другую сторону, напротив Люксембургского сада.
Париж стал куда менее приветливым – разбитые телефонные будки, надписи на стенах: «Французы, вон из Парижа! Париж – арабам!», «Долой Брежнева – нового Гитлера, да здравствует Сталин – победитель Гитлера!»; от них веяло тупой, абсурдистской агрессией и злым, анархическим невежеством. Дни, а то и вечера проводил я в полном одиночестве. Для человека почти без денег и к тому же усталого за день одинокие парижские вечера – испытание, и я был рад любым приглашениям. По сути дела, общение сводилось лишь к двум вариантам – добросердечные богатые старые дамы из русской эмиграции, которые старались подкармливать немногочисленных приехавших из СССР нищих интеллигентов, и совершенно случайные французские семьи, в которых вспыхивал недолгий зоологический интерес к человеку из-за железного занавеса. Французы искренне удивлялись, что я говорю на их языке, читал их классиков (которых они почти не читали), жалели нас за нищету (узнавая, каковы заработки преподавателя вуза в Ленинграде, они кричали: «Non!» – просто не верили), корили за несоблюдение прав человека и спрашивали про Солженицына, чей «Архипелаг ГУЛАГ» недавно перевели во Франции.