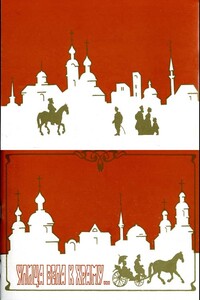В поисках Парижа, или Вечное возвращение | страница 79
Я привел эту затянувшуюся цитату еще и потому, что в ней читатель, надеюсь, увидит свидетельство того, как автор строил свой былой Париж, стараясь соединить накопленное вполне документальное знание, сотни прочитанных страниц мемуарной прозы с «мушкетерскими мечтаниями», без которых – это уж совершенно точно – никакого «Ватто» никогда бы я не написал. Как и многих других книг.
Впрочем, кроме «мушкетерских мечтаний», был и спрятанный в памяти полузабытый и все же драгоценный запас чуть стершихся, но переливающихся, живых литературных ассоциаций. У так любимого мною Дос Пассоса американец, герой «Трех солдат», при взгляде на фасад Сен-Сюльпис вспоминает галантный век:
Песенки Манон вспомнились ему и сентиментальная меланхолия восемнадцатого века; игорные дома в Пале-Руаяле, где молодые люди покрывали себя бесчестьем… <…> …billets doux[18], написанные на маленьких золоченых столиках; забрызганные грязью почтовые кареты, въезжающие из провинции через Орлеанскую и Версальскую заставы, Париж Дидро, Вольтера и Жан-Жака с его грязными улицами и харчевнями, где ели bisques[19], шпигованных пулярок и суфле; Париж с его заплесневелым позолоченным великолепием, с торжественной скукой прошлого и безумными надеждами на будущее.
В мыслях дос-пассовского персонажа немало исторической приблизительности, но как восхитительны и блеск пера, и эта картина Парижа времени Ватто!
Тогда, в 1977-м, я прожил в Париже два месяца, и многое, что вошло в «Ватто», касалось не столько искусства, сколько страны.
Впервые я ехал поездом. Проводник, пленявший пассажиров на вокзале формой с галстуком, разумеется, стукач нижайшего ранга, допущенный органами к международной поездке, уже в Кёльне был пьян, ходил в неопрятной майке и к старушке-немке в бриллиантах и соболях обращался со словами: «Кохана, постель, битте, брать будешь?» – видимо полагая, что говорит на иностранном языке. Со мной в купе ехал дипломатический чиновник при модном вязаном галстуке, недовольный своей командировкой: «День Победы в Париже, чего я в этом Париже не видел!» Звали его, хотите верьте, хотите нет, Иваном Ивановичем.
Сумерки. Резко кончился опрятный и тихий Восточный Берлин. Потом пустой мглистый овраг, острые и мутные лучи прожекторов выхватывают из стылого темного тумана бетонные плоскости мертвой стены с колючей проволокой наверху. Лай невидимых собак, граница ГУЛАГа, поезд идет сквозь дантовское небытие. И сразу – вспышка феерических огней Западного Берлина, мощные фонари, огромные витрины с неземными соблазнами и прыгающие рекламы отражаются в крышах полированных лимузинов, желтые двухэтажные полупустые автобусы катятся по гладкому асфальту, и шорох их шин легко перекрывает негромкую синкопированную «заграничную», беззаботную музыку из баров. И снова – тьма «социалистического лагеря», такого аккуратного и оттого еще более гнетущего в ГДР…