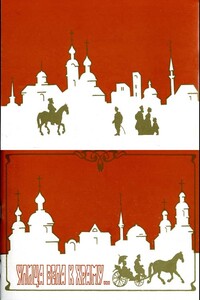В поисках Парижа, или Вечное возвращение | страница 74
А тогда я записал в блокнотике:
Сравнение более чем простое – там война и люди на войне, – может быть, и не друзья, но те, кому, как и тебе, плохо. И радости там – как на войне. А здесь отпуск. Люди, не знающие, что там. И покой, которым стыдно наслаждаться. Нет, скорее назад, к «демократической» парижской жизни!
«Демократическая» парижская жизнь уже давно не текла молоком и медом. Мои родственники, оказывается, находились уже на грани развода, дядюшке было решительно не до меня, а я так и не попытался хоть под конец притвориться, что проблемы Иисуса и апостола Павла меня занимают. Костя был добр ко мне, но я его все больше раздражал. Моя поглощенность Парижем и равнодушие к дядюшке были непростительны, но что спрашивать с советского человека, которого «пустили».
Расставался дядюшка со мной без печали, я с ним – в великом смущении. В середине августа, в разгар жары, вдруг пахнуло осенью – в Люксембургском саду стала ржаво-бурой ссохшаяся на солнце листва, листья сыпались и в черную воду фонтана Медичи, от осликов, на которых катались дети, пахло – почему-то грустно – цирком, невидимый ребенок рыдал безутешно, и строгая мама повторяла назидательно, но ласково: «Jean-Michel ne pleure jamais, Jean-Michel ne pleure jamais!»[15]
21. VIII. 72. 7 ч. Последнее парижское кафе.
7.15. И почти белое, низкое, платиновое солнце за Триумфальной аркой, светло провожающее меня – осенняя платина над Парижем.
Мы говорили с ним (Парижем), перебивая друг друга, нам мешали магазины и родственники, но, как в истинной любви, были мгновения все искупающего полного счастья.
Последние дни я в угрюмом отчаянии навсегда прощался с Парижем, не рискуя и мечтать, что когда-нибудь вернусь. Только это «почти белое, низкое, платиновое солнце», плеснувшее в автобусное окно, когда я проезжал через Лувр, ненадолго вернуло мне зыбкую надежду на возвращение. И до сих пор, когда судьба дарит мне Париж, я вспоминаю то солнце и думаю о своей трусливой неблагодарности.
Тоскливым был отъезд. Медлительный поезд – французы называют такие составы, останавливающиеся на каждой станции, «омнибюс» – тащился в Гавр, я ехал один, дядюшка меня не провожал. Возвращался в рабскую страну, которую променять ни на что не мог и не хотел.
Я, конечно, не знал стихов Наума Коржавина, написанных в том же 1972-м:
Снова Гавр, куда приплыл я целую жизнь назад. На склоне дня 22 августа я поднялся на борт огромного «Пушкина». Этот теплоход вез меня не в неизведанное, я слишком хорошо знал, что меня ждет. Тем более гремел оркестр – «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…». В первом же помещении глянули на меня со стены члены Политбюро ЦК КПСС, официозный оптимизм рухнул на мою бедную голову.