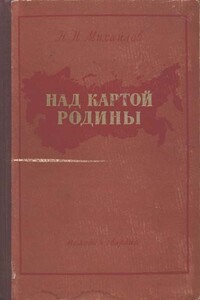В поисках Парижа, или Вечное возвращение | страница 35
Отлично писался «Давид»!
В 1963 году у меня появилась пишущая машинка «Колибри». Плоская, как книжка, она пахла металлом, типографией и вносила в процесс сочинения порочное самодовольство: я ударял по ее темно-зеленым, литым по форме пальцев клавишам, и на бумаге появлялись ровные печатные строчки. Текст сразу начинал казаться настоящим, прекрасным. Я находился в том гипнозе авторского молодого самолюбования, когда все, что делаешь, очень нравится, а прочитанное у других мгновенно перерабатывается в сознании, невинно превращаясь в не вполне переваренную, но очень полезную для создания собственного стиля пищу. Целые пласты интонаций, оборотов в лишь несколько адаптированном виде врывались на мои страницы (без злого умысла, по легкомыслию), создавая вполне профессиональные куски не без шика написанного вторичного и стилизованного текста. Не хочу сказать, что «Давид» совсем уж плох. Я писал книгу с увлечением, прочел целую библиотеку по истории Французской революции, расписал ее события день за днем, воссоздал, как мне казалось, сочные панорамы Парижа – от Людовика XVI до Империи и Реставрации, знал все до тонкости про костюмы, мебель, обычаи, манеры. Тем более конец XVIII века недалек от мушкетерских мотивов: плащи, камзолы, кружева, и еще Италия – граф Монте-Кристо, Рим, Корсо… Перечитывал без конца «Боги жаждут», «Жизнь чудака» Фейхтвангера и множество других книг – о Франции эпохи Террора написана целая гора не только исследований, но и беллетристики.
Упиваясь собственной скромной ученостью, я нагромождал живописные беллетризованные довески к реальной истории своего странного героя – гениального художника, глупого, пылкого человека, ставшего беспринципным не по корысти, а от робости, спасительной наивности и доверчивости. Но тогда не решился бы ни я написать, ни издательство напечатать книгу о беспринципном и трусливом гении! Писал о преданном революции живописце и о его «трагических заблуждениях». Хотя, вспоминая много лет спустя те времена, я еще и еще раз возвращаюсь к мысли, что и редакторы и авторы опережали порой ленивую цензуру в собственном изуродованном сознании.
Давид у меня и вздыхал, и размышлял – только что еще не сморкался! До романа я недотянул, от строгой биографии ускользнул, и получился все тот же неполноценный «кентаврический жанр» – бедный читатель не знал, чему можно верить, чему нет, хотя бойкая гладкость, даже некоторое изящество слога и историческая точность и знание деталей – все это было, да и Дюма читал я не напрасно.