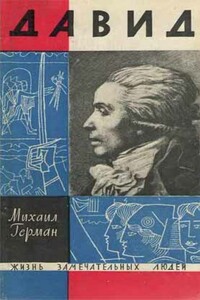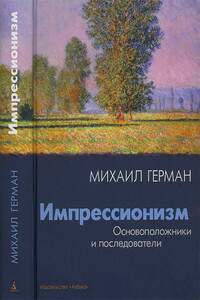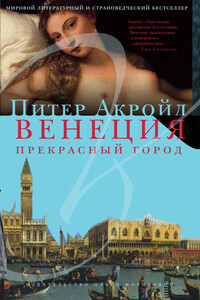В поисках Парижа, или Вечное возвращение | страница 34
Я писал, не вылезал из библиотек, мучился, многое не получалось, изнемогал над переводами. Аванс растаял мгновенно. Но я отчетливо понимал (не раз возвращался к этой мысли): более счастливого времени в моей жизни не будет.
И оказался прав.
Ни о чем не вспоминаю я с такой светлой и тихой радостью, как об этих днях загнанной и нервной работы в комнате убогой коммуналки. Я так мало умел в литературной работе, что даже скромная беллетристическая лихость моего еще банального, но пригожего и ловкого пера приводила меня в эйфорический восторг. Каждая метафора приносила лестное ощущение себя в литературе, а громоздкая, но «образная» фраза заставляла меня ликовать. Я до сих пор люблю ту, процитированную только что фразу про цилиндр Домье, хотя давно понял, насколько эта метафора дурновкусна и претенциозна. Люблю потому, что помню тогдашнюю свою детскую самодовольную иллюзию «власти над словом», главное – свободы от научной фразеологии. И еще это наслаждение сотворением Парижа – ведь я реализовывал все свои гордые и смутные детские мечтания, укреплял их знанием и описывал как виденные в жизни!
И вот что еще любопытно нынче и странно и плохо понятно. Издательство, для которого я писал, было тогда относительно либеральным, на избыточную идейность не претендовало и никаких политических требований и претензий не высказывало. А вот я, я сам и помыслить не мог, что можно писать текст без обязательных политических книксенов. И не потому, что едва ли не все книги «ЖЗЛ», которые я читал, писались в захлебывающейся, прогрессивной, «партийной» манере. Просто – как хотелось бы мне быть услышанным людьми новых времен! – подобная литература ни авторами, ни читателями и не воображалась без политических корней и воспитательных побегов. Не просто боялись: иначе не напечатают. Но были уверены: иначе не пишут!
Итак, первые (воображаемые!) прогулки по Парижу были совершены.
Сейчас, перелистывая книжку, опубликованную сорок лет назад, я не нахожу в ней вопиющих нелепостей, все основано на усердных штудиях, на книгах и планах, а изобилие общих мест – «сизые платаны» или «гулкие залы Лувра» – все это было, конечно, бессознательными парафразами читанного в чужих книжках.
«Домье» я закончил летом 1962-го. Двенадцать авторских листов – более 250 машинописных страниц – отмахал за семь месяцев. Сейчас уже и не представить себе, как я тогда легко (и легкомысленно, конечно!) писал.
Потом я уговорил издательство подписать со мной договор на книгу о Давиде.