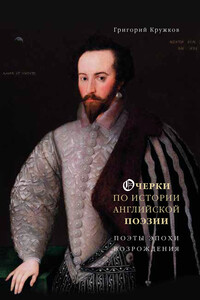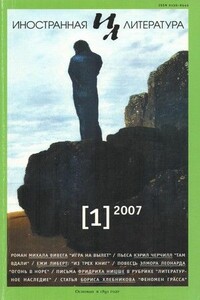Романтики и викторианцы | страница 114
Тем не менее принятая схема строго проведена по всему стихотворению, что графически подчеркивается отступами. Однако обычных пробелов между строфами нет. Стихотворение представляет собой как бы сплошную стену строк; его структура скрыта за неровной, обрывистой речью рассказчика, постоянно нарушающей границы пятистиший. Многие пятистишья связаны между собой анжамбеманами (2–3, 3–4, 4–5, 8–9, 10–11), так что конец строфы совпадает с концом предложения лишь в семи случаях из двенадцати, а именно в строфах 1, 5, 6, 7, 9, 11 и 12. Все время поддерживается некое неустойчивое равновесие между двумя противоположными принципами – строфическим и астрофическим.
Таким образом, можно заключить, что сама стихотворная форма, выбранная Браунингом, вносит свой вклад в создаваемую им тревожную и угрожающую атмосферу повествования. Борьба между строфикой и синтаксисом создает внутреннее напряжение, отражающее борьбу рационального с иррациональным началом в сознании героя стихотворения.
«Любовника Порфирии» часто называют первым драматическим монологом Браунинга, отсчитывая отсюда историю нового, «запатентованного» им жанра. Это утверждение нуждается, как минимум, в уточнении. Стихотворение начинается с описания холодного, дождливого вечера:
Эта экспозиция ненамного отличается по стилю, скажем, от начала поэмы Китса «Канун Святой Агнессы»:
Правда, повествование Браунинга с самого начала ведется в первом лице, но и это не новость в романтической поэзии, где главный герой нередко выступает в роли рассказчика. Например: «Взгляните на меня: я сед, / Но не от хилости и лет; / Не страх внезапный в ночь одну / До срока дал мне седину» («Шильонский узник» Байрона).
«Любовник Порфирии» начинается как повесть в стихах. Лишь в концовке нам открывается, что действие еще продолжается в момент рассказа: