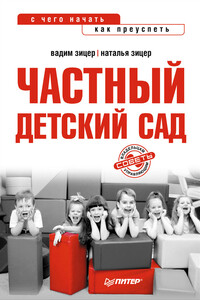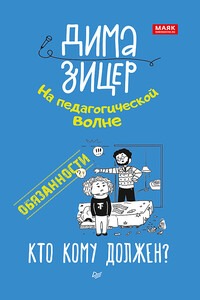Свобода от воспитания | страница 49
Сильнее, чем папа, лежащий на диване с бутылкой пива из вечера в вечер, на ребенка не влияет никто. Так же как трудно «перебить» опыт мамы, кричащей: «Немедленно убери свои игрушки!»
Что касается нехорошего мальчика, лучшее, что с ребенком может произойти, – это такая встреча, в результате которой он укрепит свою самоидентификацию: «Человек может быть таким, может мне нравиться или не нравиться, следовательно, и я могу выбирать, каким быть, то есть могу быть собой». Самое страшное, что можно совершить по отношению к любимому человеку, – это отказать ему в самости, испытывая уверенность, что тот настолько не понимает, кем является, что немедленно примкнет к плохому мальчику, девочке-хулиганке, начнет пить, увидев алкоголика, и т. п.
Признаюсь, я абсолютно убежден: чем больше встреч с людьми, которые не похожи на тебя, – тем лучше. Человек должен как можно чаще видеть новое. В этом смысле у меня нет выхода: я должен восстать против принципа единства педагогических требований. Ведь он предполагает, что самые разные взрослые повторяют одно и то же, смотрят на мир одинаково, всячески доносят до ребенка, что «тут не о чем спорить – любой умный человек тебе это скажет». Круг сжимается, выбирать ребенку не из чего – все взрослые одинаковы, ибо у них «единство».
Замечательный случай произошел несколько лет назад у нас в школе, когда пришедшая на праздник бабушка обратилась к незнакомой девочке пяти лет с требованием причесаться. Девочка задала единственный вопрос: «Зачем?» Этого пожилая женщина явно не ожидала. Она огляделась в поисках поддержки и, не найдя ее, заявила: «Девочка должна быть причесана – это тебе любой доктор скажет!» Девочка несколько секунд подумала и с явной жалостью к собеседнице спросила: «Ну а доктор-то тут при чем?»
На самом деле все люди разные. Это и есть основной педагогический принцип.
Исходя из этого принципа и нужно действовать.
Люди разные. Некоторые из них могут обидеть, некоторые ведут себя скверно. И родители, конечно же, должны защищать детей от опасностей. Как правило, мы знаем, в каких ситуациях требуются наше вмешательство и наша защита. А в остальных?
Ведь защищать – не значит «лишать впечатлений, ограничивать взаимодействие с другими людьми, отнимать выбор, подменять своим страхом детскую свободу».
Мы должны позволить нашим детям научиться понимать, когда опасность существует и в чем она заключается. Научиться видеть мир, обращенный к ним лицом (каким он, если честно, и является до того момента, пока мы не развернем его в своем сознании). А может, предоставив им такую возможность, мы и сами сможем этому научиться?..