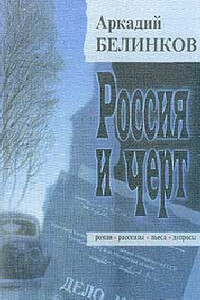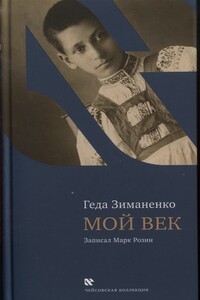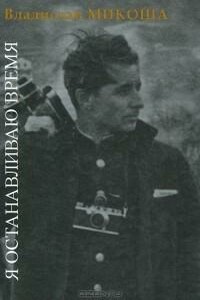Юрий Тынянов | страница 12
Тынянов был исторически отзывчивым человеком, и поэтому его первый роман появился в то время, когда восстание на Петровской площади приобрело значение, которое никогда раньше ему не придавалось, потому что оно никогда так тесно не связывалось с другими эпохами, как связалось оно с той, в которой писатель жил. Книга о Пушкине была начата в те годы, когда стали достаточно определенно выясняться возможности взаимоотношений поэта и общества.
Книги Тынянова написаны о важнейших явлениях русской истории, и написаны тогда, когда эти явления начинали приобретать особенное значение.
Тынянов избегал работать на популярных анекдотах и знаменитых цитатах, соединенных пейзажами и объяснениями в любви. Он работал преимущественно на малоизвестном материале, не вошедшем в хрестоматии. Но это не главное. Главным было осмысление материала, столкновение источников, извлечение из документа тайного значения. «Там, где кончается документ, там я начинаю»[10], — писал он. Он начинал и часто обнаруживал нечто совсем не похожее на то, что было в документе, и обнаруживал то, что было спрятано документом. То, что он делал, было ново и раздвигало границы традиционных представлений. После Тынянова многие явления истории русской литературы в нашем сознании заняли большую площадь, чем та, которая отводилась им раньше. Теперь мы говорим как о чем-то привычном: «Грибоедов-дипломат», «архаисты». Это стало естественным, это вошло в историю русской культуры, с которой встречается каждый человек после седьмого класса средней школы. Оказалось, что Кюхельбекер не только лицейский товарищ Пушкина, но и единственный поэт, продолживший рылеевскую тему после 1825 года. До Тынянова в сознании людей, кончивших не только семь классов средней школы, но часто и филологический факультет, Кюхельбекер занимал не больше места, чем ассирийский царь Сарданапал. Кюхельбекера в русской литературе не было, были редкие упоминания. Он попадался только в алфавитном указателе. Последний на «К». В «Истории русской литературы XIX века» под редакцией Д. Н. Овсянико-Куликовского во всех пяти толстых томах в общей сложности о Кюхельбекере сказано полстраницы. Сказано только в связи с кем-нибудь или с чем-нибудь: «Исторические песни» Немцевича вдохновляли Рылеева и Кюхельбекера»[11]. «Из них почти все, за исключением Одоевского, Погодина и Кюхельбекера, служили в это время в московском архиве министерства иностранных дел…»[12]