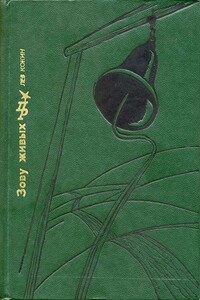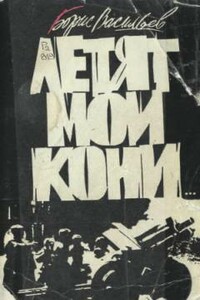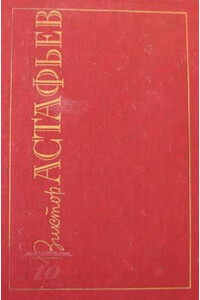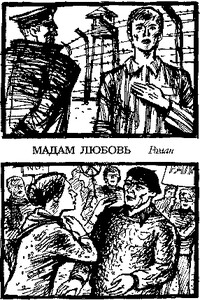Семинар Петровского | страница 8
…Мои способности к изучению иностранных языков во всяком случае не выше средних. Я начал заниматься английским языком, когда мне было 55 лет, и изучал его два года. Я знаю его плохо, но когда нужно поговорить с американцем, с англичанином, обхожусь без переводчика. Он меня поймет, и я его пойму. А читать по-английски могу любую литературу, потому что прочитал много интересных книг. Почему у студентов такие плохие результаты изучения иностранных языков? Потому что они этими языками не пользуются. Когда я был студентом, то мой руководитель профессор Егоров давал иногда читать статьи на иностранном языке, которого я не знал. Так однажды он дал статью на итальянском языке и говорит — выучите итальянский язык. И я несколько книжек на итальянском языке прочитал. Теперь я его не знаю, забыл. Только тогда приносит пользу изучение математики, химии, физики, иностранного языка, когда эти все предметы используются…»
В большом двусветном зале ректората, где собирается университетский ученый совет, в стенных шкафах стоят сто шестьдесят томов «Русской старины» — история в круге ректорских интересов! Когда университетские археологи нашли в Новгороде первые берестяные грамоты, — эти, по словам руководителя раскопок профессора А. В. Арциховского, «исторические источники совершенно нового рода», — Иван Георгиевич полностью оценил значение открытия. Ему мы обязаны значительным расширением экспедиции, он сам посетил Новгород, на раскопках участвовал в разборке находок и в чтении берестяных грамот, проявив при этом глубокое знание истории Новгорода.
Петровский-педагог не может не найти общего языка с «гуманитариями». Воспитывать людей, которые будут нести в массы культуру и «на этой основе создавать еще более высокую культуру», по мнению ректора, можно, лишь понимая, что, пожалуй, самые важные человеческие поступки определяются чувствами. Нужно воспитывать человеческие чувства — так, «чтобы людям хотелось делать хорошее и не делать плохого».
Долгое время встречался он с «гуманитариями» на прежней их территории (хотя часть гуманитарных факультетов еще остается на Моховой, наступил их черед переселяться на Ленинские горы) — в старом ректорском кабинете, просторном и геометрически круглом, как синхрофазотрон. Впрочем, сравнение едва ли уместно — снаружи на стене мемориальная надпись: «Здание построено Казаковым и Жилярди».
Ровно поматывая маятником, стучали в простенке старинные часы…
На этих беседах присутствовал основатель университета Ломоносов, сам когда-то прозванный первым русским университетом. На обоих изображениях, скульптурном и живописном, он мало чем напоминал сановного вельможу в напудренном парике, которого мы привыкли видеть на пьедесталах. Это немолодой человек с высоким мудрым лбом и голым теменем. Таким он бывал в своей лаборатории или за письменным столом — там, где чувствовал себя запросто.