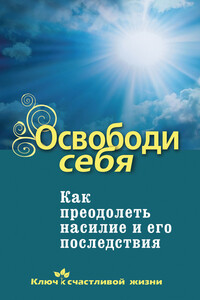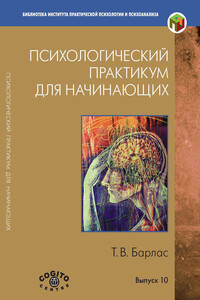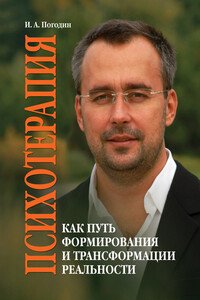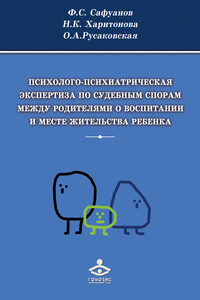Психоанализ. Среди Миров, Пространств, Времён… | страница 38
Мы говорили о линейной системе Фройда, механистической системе. Она, кстати, была и у Хайнца Кохута. Помните? Самость: полюс идеалов, полюс надежд, и между ними некая линия напряжений. Тоже линейная система. Линейные системы предполагают сверхавторитарные подходы в психоанализе. Нелинейные аспекты психоанализа латентно, подспудно существовали, начиная с кляйнианцев и до времён Кохута, но стали выходить на поверхность где-то в начале 80-х годов двадцатого века через идею интерсубъективности, через идею субъект-субъектных отношений, через теории внутренних пространств. Ментальные пространства аналитиков готовились к данной презентации посредством работ Оуэна Реника, Джона Кафки, Даниэля Штерна, Дэвида Лихтенберга, Саломона Резника, Роберта Столярова (он же – «Сто-лороу») и других авторов. Идеи нелинейности позволяют аналитику смотреть в глаза своим проблемам для отслеживания собственных особенностей, включая собственную патологию, внутри трансферно-трансферного взаимодействия. Не все аналитики принимают идеи нелинейности. Легче, мы знаем, чувствовать, мнить себя абсолютно нормальным, здоровым, непререкаемо авторитетным… «Под сурдинку» сделать анализ весёлым, соблазняющим, инициирующим сексуальную разнузданность, лобковым (по тонкому замечанию
Джона Кафки), реализовать своё нереализованное за счёт психического и физического здоровья пациента…
Я думаю, аналитик не должен соблазнять пациента для следующей сессии, не должен манипулировать. Аналитик должен принимать миры пациента. Ничего не делать с этими мирами пациента. Ни соблазнять, ни пугать – только принимать. Процесс психоанализа происходит внутри аналитического пространства аналитика. Все трансформации, трансвестиции пациента вначале прорастают в личности аналитика, потом в рабочем пространстве аналитика, потом в интроецированном пациенте, как личности, потом пациент решается взять ответственность за трансформации и трансвестиции на себя, но в рабочем пространстве аналитика… Задача аналитика обеспечить свободу передвижения внутри своего аналитического рабочего пространства, в течении всего анализа, поскольку аналитик анализирует проблемы пациента через свои проблемы, трансформированные или перешедшие в другие пространства. Не через теорию и не через интерпретацию. Пациент чувствует перечисленные процессы без наших слов, без интерпретаций. Пациент часто проговаривает себе и нам нашу интерпретацию, не вербализованную, не проговорённую нами для него, о чём мы думали сегодня, вчера или на сессии неделю назад. Когда мы приоткрываем дверки из своего внутреннего аналитического пространства в свою личность, в более субъективные наши слои, предоставляя пациенту возможность тоже туда заглядывать, это не значит раздеться, раскрыться перед пациентом. Я говорю о бессознательном процессе. Я не говорю, что мы должны рассказывать наши проблемы пациенту. Нет. Не дай Бог, не надо его нагружать. Не надо своими глубинными мирами захватывать миры пациента, личность пациента. Но мы открываем дверки. Пациент может туда заглядывать, а может не заглядывать. И если он увидит схожую проблему – вы знаете аналогию Фройда про два камертона – одна начинает звучать, другая отзывается. Не только в нас начинают звучать проблемы пациента, но и в пациенте наши проблемы. (Для кого всё это кажется очень сложным или чрезмерно опасным, тому лучше выбрать другую профессию.) И когда пациент начинает говорить интерпретацию, о которой мы думали, но задумались – повредит она пациенту или нет, – пациент сообщает нам о произошедших внутри него трансформациях или трансвестициях и благодарит нас за доверие и такт. Дональд Вин-никотт писал – лучший аналитик тот, который весь анализ молчит. Пациент говорит наши (наши совместные – нужно помнить!) интерпретации, заглянув в наш внутренний мир, в мир аналитика, позволяющего, конечно, заглянуть. Высший пилотаж в психоанализе, когда вы о чём-то думаете в начале сессии, думаете об одном, думаете о другом, потом пациент чувствует, что чувствуете вы.