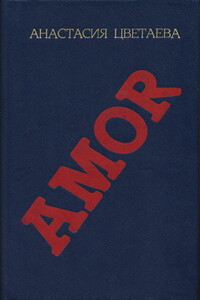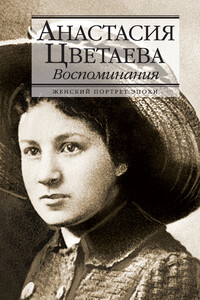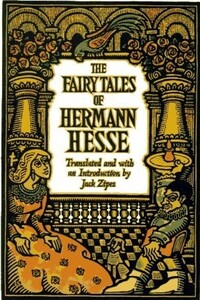Маловероятные были | страница 5
Слышу резкий, с дрожью голос (мой?):
— А где это?..
— В Замоскворечье, Ордынка. Следующий.
Толкнувшись о подходившего к окошечку, не видя никого, ничего, я иду через солнечную (тепло!) Страстную площадь, целую листок, вынимаю из портфеля фиалки. «Это же я Нине купила!»
И минуту спустя: «От него».
…Цепь бульваров, вагон «А». Ордынка, как далеко! Мне незнакомая улица. Как давно я была за Москва-рекой. В Третьяковке раз как-то… Столько лет хочу пойти на Полянку, в бывший Маринин дом (ее теперь — Париж, прежде — Чехия), — Первый Казачий переулок, дом 8! С юности не была! Наверное, недалеко от Ордынки? Как ни на что не хватает времени. Аля тогда была крошечная (Маринина дочка). Теперь ей, как и моему Андрюше, — двадцать четыре. Париж — ее, его — Алтай. Жизнь — сплошная разлука! Непременно пойду сегодня на Полянку, в Казачий. На обратном пути от Нины! И напишу им, туда…
Но это другая боль о кусочке канувшей юности (первый год брака Марины и Сережи, ее двадцать, мои восемнадцать лет…) Солнечный двор с акациями, тополя, запах, как во дворе Трехпрудного, где Марина и я родились, — не за этот ли запах и за старые антресоли Марина с Сережей и купили тогда тот дом? Но боль эта не сочетается с сегодняшним днем, застенчиво гаснет, как погас тот солнечный двор.
Иду в тени от домов, бывших барских особняков Ордынки, на миг окунаясь в солнечные перешейки — низких ворот и калиток. 1936 год.
И вот он, переулок, где не ждет меня Нина. Сверяя номера с листком МКХ, дохожу до ее дома. Старый бедненький особняк, огромная развесистая береза. Окно, крыльцо — таких особняков тысячи. В раскрытые ворота вижу качели, на них мальчик школьного возраста. Две женщины развешивают белье. Я задаю мой вопрос нарочито медленно — чтобы овладеть голосом. Или чтоб оттянуть?
— Туркина? Нина Дмитриевна? — переспрашивает женщина.
— Да, — говорю я строго. — Сын у нее…
— А, Нина Дмитриевна? Сын? Вот, вот. Во-он он на качелях качается!
Сердце падает. Значит — не та… Однофамилица!
— Да ты что? — Другой женский голос. — Наверху живет, как не знаешь! Да у ней же малыш, Колька! Ну! Знаешь?
Не слушая, не глядя, шагаю двором, к крыльцу. Вверх — мимо каких-то дверей, держась за облупленные перила, по разлатым ступеням уютной лесенки, по которой всходил Леонид. Воспоминание и о доме Толстого в Хамовниках, и о папином, в Трехпрудном. Сердцебиение застилает все.
Навстречу мне приоткрывается низкая дверь, слева от конца лестницы, высовывается голова женщины — черт не вижу по близорукости, — темные волосы, круглолицая, большие глаза, яркие.