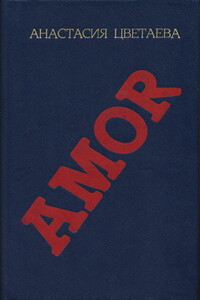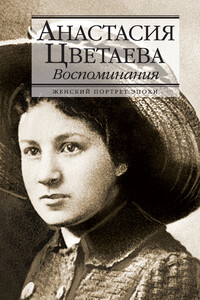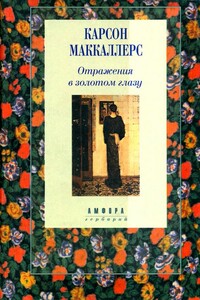Маловероятные были | страница 4
— Спите… Поздно! Пора.
Властная ласка огромных серо-зеленых глаз, близоруких, поднявших и опустивших надо мной тяжелые веки.
Ее мать уже спала, устав; и сын, мальчик большеглазый, как мать, спал. О стекла окон бились снежинки. Где-то они сыплются на могильный холм.
Весеннее утро пусто и высоко стояло над деревьями Сретенского бульвара, не видного нам из высоких, пустых окон третьего этажа. Первый взмах сознания срезан серпом: «Нет Леонида!» Сколько утр будут так начинаться, сколько ночей! Голова отдирается от подушки тугостью овоща от гряды. Проспано часа три. Надо вставать — идти — что-то делать. И нет сил. Однако есть уже достижение: вчера кажется очень далеко — горе быстрый вожак. Неужели еще вчера утром мы не знали, что Леонида нет? Это один день прожит?
Запах мокко, блестящий кофейник.
— Вот полотенце, Ася. Ванна свободна.
Мать подруги, старейшая писательница России, когда-то красавица (невысокая, полная, с пристальным взглядом еще больших горделивых глаз, но с уже старческим ртом), давала мне мыльницу.
Я шагнула, взмахнув белизной за плечом, как вдруг встала, ничего не поняв, потрясенная: ощутимо, словно сойдя из воздуха, в самую черепную коробку было подано мне — спущено — вложено:
«Нина Дмитриевна Туркина».
Беспомощно, испуганно я оглядываюсь. Что это было? Я окликнула подругу:
— «Нина Дмитриевна Туркина» — мне сейчас, понимаете? Вот отсюда. — Я показала на голову.
— Так и должно было быть. Я знала, что так будет. — В огромных серо-зеленых глазах Нэй, с близоруким взглядом, очень тяжелыми веками, — свойственное им сияние торжества.
Решили так: я отменяю свои английские уроки в Тимирязевке, иду в МКХ[1] — будка на Страстной площади — и подаю запрос об адресе на это имя, отчество и фамилию.
Если это она, улица будет в Замоскворечье.
Голубой день, тает. Вагон трамвая «А»… Я протягиваю заполненный листок в окошечко МКХ, сердце бьется так сильно, что не слышу, что отвечают.
— Что? Через двадцать минут?
И вот я хожу по Страстной площади, меж цветочниц, напротив Пушкина, на невидимой цепи вокруг будки. Покупаю фиалки — они рассыпаются. Сыплю их в портфель и хожу. Хорошо, что вблизи будочки МКХ мало народу. Так гораздо легче мне ждать.
И зачем я купила фиалки? Ведь даже нет его гроба, он в земле давно! А Нина не знает… А вдруг окажется, что нет Нины Дмитриевны Туркиной?
Медленно подхожу к окошечку. Не слышу свой голос. Маникюрные пальчики протягивают листок: «… проживает… возраст — около 30-ти… служащая… по такому-то переулку…»