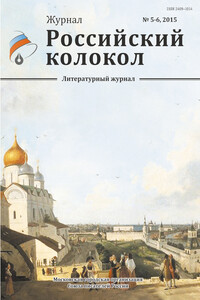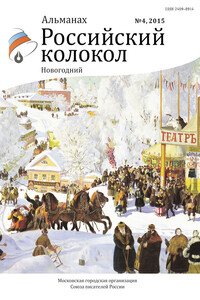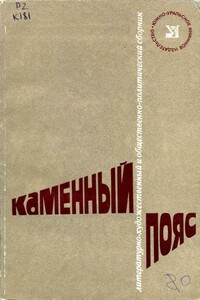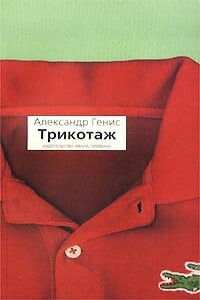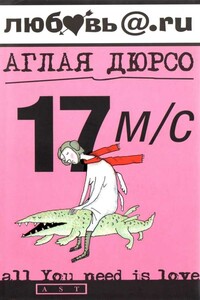Российский колокол, 2016 № 1-2 | страница 31
В раннем шутливом стихотворении о русалке есть знаменательная строка, которая ассоциативно свидетельствует о неразрывном единстве русского певца и песни, русского поэта и литературы: «Я в реке живу, а не купаюсь!..». Кстати, это одно из первых появлений «реки» в поэзии Дианы Кан.
Позже она создаст образ совершенно иного существования в литературном мире, и её оценка «вёрткого словечка-воробья» будет бескомпромиссна.
В стихотворениях Кан сосредоточено очень сильное строительное начало, что особенно заметно на фоне современной русской поэзии, до предела перенасыщенной погребальными или, 92 напротив, баррикадными мотивами. В таком «психологическом устройстве» её художественной речи чувствуется некая внутренняя обязанность автора перед Вышним. Юность трав и весеннее детство земли поэтесса очень ценит. К человеку же у Кан – другой счёт: у человека должна быть задача. Он не может стать «наивной травой», однако непременно должен быть при траве, при дереве, при реке, при поле… Чуткий, милосердный и властный – для православного христианина в этих определениях содержатся самые общие характеристики Бога. Но и человеку-созидателю подобные свойства в той или иной степени присущи. Если читатель согласится с таким утверждением, для него в стихотворениях Дианы Кан станут понятными не только образы воина, художника, матери, но и олицетворённые образы Руси, Волги, ветра, всего русского космоса – «неоглядного пространства, посильного лишь для славянских глаз».
Совершенно реальные земли и реки у поэтессы соседствуют с былинными образами. И если реальность, попадая в художественное произведение, становится некоей идеей, словно бы парящей над грубой земной поверхностью, то мистический антураж, совсем наоборот, превращается во что-то осязаемое – его можно не только видеть в деталях, но и потрогать рукой. Таковы два стихотворения Кан о реке Смородине и Пучай-реке. В них лирическая героиня предстаёт в виде воительницы, призванной остановить нашествие тьмы и смерти на Русь.
В славянской мифологии Смородина – река, отделяющая мир живых от мира мёртвых; место обитания Чуда-Юда поганого – от Родины, Руси Святой. Через Смородину переброшен Калинов мост, а меж берегов течёт огненный поток, кипящая смола (название реки от древнерусского слова «смород» – сильный, резкий запах, зловоние, смрад). У моста находится ракитов куст. По преданию, он вырос на самом первом на земле камне, выброшенном рыбой из моря. Это – место обитания птиц и животных, обладающих даром предвидения и особой силой. Среди них – Соловей-разбойник. Противостояние на Калиновом мосту, на реке Смородине есть вечная битва Добра и зла, в христианской мистике – происходящая в сердце каждого человека.