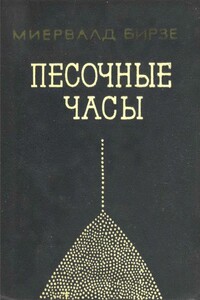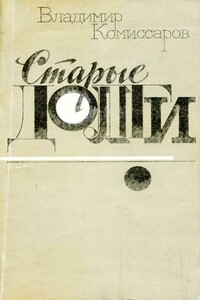Дети Ивана Соколова | страница 39
Лет ему было много, все его лицо, даже подбородок были прочерчены глубокими морщинами, похожими на канавки. Он плотно натягивал маленькую пилотку, но все равно казалось, что она держится на его большой голове каким-то чудом.
Мне запомнились его большие, широкие руки, похожие на лопаты, и глаза, чуть прищуренные, всегда насмешливые. Они тоже были даны ему явно не по размеру, по сравнению с его широким скуластым лицом.
— А ну, кто тут живой, проснись! — кричал сержант еще издали.
Ему трудно было говорить шепотом. Он никогда не отделывался общим поклоном. Даже с Павликом у него был свой разговор: почему-то называл его «открыточкой». Если Павлик начинал плакать, сержант потирал руки и говорил с восхищением:
— Люблю слушать, как он плачет!
Когда однажды Павлик вдруг заголосил, бронебойщик заглянул ему в глаза и сказал:
— Вот не люблю, когда кричат, люблю, когда сам кричу.
Все мы, видно, приглянулись сержанту. Агашу он называл «потешницей», а Юльку — «барышней».
«А как бы он Олю назвал?», — думал я. Мне было жаль, что я часто дразнил свою сестру «плаксой-ваксой».
— А ты все с девочками сидишь, — сказал мне сержант и тут же, чтобы я не обиделся, добавил: — А ты, молодчага, не огорчайся, зубы-то у тебя во рту молочные, вот подрастешь, тогда и мне поможешь ружье таскать!
Он приносил нам разные гостинцы; сам протирал ложки, доставал концентраты и немецким тесаком открывал консервные банки и при этом что-нибудь приговаривал:
— Суп гороховый, суп прозрачный, суп пюреобразный.
Закончив приготовления, он требовал, чтобы все мы ели вместе с ним. Никто не отказывался, а он говорил:
— Люблю такую компанию!
Всех угощал, а сам протягивал пустую консервную банку Фекле Егоровне:
— Чашечка красива прибавочки просила!
Ел он не торопясь, а закончив еду, стряхивал хлебные крошки с колен и всех нас благодарил:
Вот и хорошо! Настроение хорошее, обедом угостили, а теперь пора и ужинать. — Он хлопал себя по животу и улыбался, подмигивая надутой Юльке:
— Людей без рук и без ног видел, а без живота еще не пришлось.
Однажды он достал кисет, вышитый цветочками, мундштук и аккуратно скрутил большую самокрутку; солидно покашлял и начал рассказывать про то, как в царской армии проходил он службу и в прошлую войну с немцами воевал.
Рассказы свои он называл «брехней».
Запомнилась мне его «брехня» о том, как солдаты насыпали в пушку пятнадцать пудов пороху и пятнадцать пудов солдатских пуговиц и так ударили по врагу, что остались от него только рожки да ножки, как в сказке про козлика.