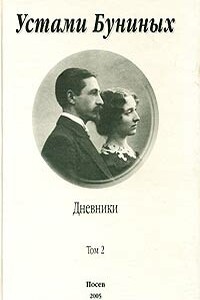Товстоногов | страница 85
С другой стороны, он отмечал (не по поводу этого конкретного спектакля) очень важный момент: «С моей точки зрения (а я представляю в искусстве определенное вероисповедание, другие могут не разделять мою принципиальную позицию — с ними у меня спора нет и быть не может), цель театра в работе над любым произведением — высечь искру авторской мысли, которая сегодня может взволновать зал. Если она высекается, спектакль находит отклик у зрителя, если нет, все превращается в свою противоположность. Соответствие авторскому взгляду на жизнь и должно стать критерием, который надо выработать в себе и не обманываться внешним успехом — он нередко приходит потому, что бесцеремонное обращение с автором поощряется частью зрителей, принимается ими за смелость и новаторство, а эти качества всегда привлекательны».
Судя по немногочисленным описаниям, это был спектакль-обозрение, в быстром темпе сменяющиеся эпизоды студенческой жизни: сдача экзамена, устройство в общежитие, лекции… Эти этюды скреплялись веселым студенческим маршем, под звуки которого в начале и в конце спектакля проходили перед зрителями все участники. Зрелище непритязательное, но, вероятно, задушевное по интонации, окрашенной легким юмором, в чем-то совпадало, а в чем-то и резко контрастировало с реалиями и ритмами жизни, что текла за стенами театра. Это обусловило зрительский успех спектакля.
Не сохранилось более или менее подробных сведений о поставленном вслед за «Студентами» «Законе Ликурга» по Т. Драйзеру (инсценировка Н. Базилевского). Странно, ведь именно в эти годы в нашей стране было издано первое собрание сочинений Т. Драйзера, все зачитывались «Американской трагедией» и вполне понятно, почему Товстоногов обратился именно к этой инсценировке. На фоне отечественной драматургии тех лет даже слабый «сценический пересказ» серьезного американского романа мог стать шедевром! Тем более, что «Закон Ликурга», разоблачающий капиталистические нравы, позволял судить о том, как новый главный режиссер выстраивает репертуарную политику театра.
Сезон 1950\1951 года вошел в биографию Товстоногова и в историю театрального искусства Ленинграда той поры двумя премьерами — «Дорогой бессмертия» В. Брагина и Г. Товстоногова по документальной прозе Юлиуса Фучика «Репортаж с петлей на шее» и «Грозой» А. Н. Островского.
По словам Р. Беньяш, «отдав дань мнимомонументальному и помпезно-героическому, режиссер еще острее почувствовал влечение и потребность в настоящей героике. Он понимал, что противоядие от парадной многозначительности надо искать не в гальванизированных проблемах избитого треугольника и не в ханжески пресных, морализирующих историях о добродетелях современной семьи.