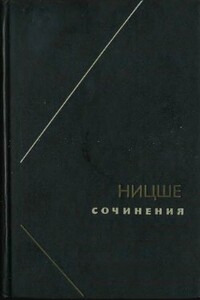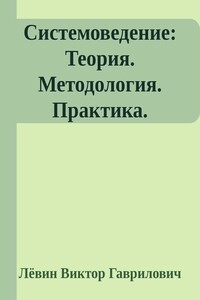Книга-мистерия | страница 33
Тут-то и вырастает перед нами наихристианнейшая «Философия свободы» с острием знания, направленным в былую область веры. Наше время, соглашается Штейнер с Ницше, есть время знания. Да, но что за это знание? — вот в чем вопрос. Вопрос, упущенный Ницше и действительно обрекший его на провал: снаряжаясь в поход против тысячелетних святынь, этот принц Фогельфрай не пошел в своих теоретико-познавательных предпосылках дальше наспех мобилизованного позитивизма и скептицизма. Как будто и здесь сошло бы с рук гасконское сумасбродство, вознамерившееся на такой лад покорять этот «Париж»!Ответ «Философии свободы»: христианство возможно как знание, но для этого необходима христианская теория познания, или, как скажет впоследствии Штейнер об «Истине и науке» и «философии свободы»: мысли Павла в области теории познания. Павел («святой — заступник мышления в христианстве», по прекрасному выражению А. Швейцера), самый непонятый — «неудобовразумительный», как отзывается о нем апостол Петр — и, может быть, самый одинокий дух из всех, кого когда-либо знала христианская действительность, покровитель и правозащитник любого рода духовного бунтарства и диссидентства, нудимого волей к познанию и духом свободы — непонятый и в этом даже самими бунтарями; Павел, Моисей христианства, перманентно выводящий живой дух его из нового римско-константинопольского и какого угодно пленения, когда дух этот оказывается под гипсовой повязкой форм и оборачивается собственной посмертной маской; Павел, как никто призывающий «найтись во Христе», чтобы Мистерия Голгофы свершалась не только для нас, но и в нас, в каждом индивидуально и каждым в первом лице, этот Павел, бесстрашный гностик и испытатель глубин, возрождается здесь в новом, небывалом для себя, но и вполне естественном качестве «гносеолога». Может, когда-нибудь из разрозненных и летучих высказываний Штейнера о павлианской основе «Философии свободы» вырастет еще специальный антропософский трактат, систематизирующий эту бесконечно глубокую параллель и переводящий гностический язык «Посланий» Павла в гносеологический язык трудов молодого Штейнера: там, где речь идет у Павла о первом и втором (ветхом и новом, перстном и небесном) человеке, об обновлении духом ума и облечении в нового человека, о шести правилах гнозиса («Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности…» Еф. 6, 14–17), там четко вырисовываются у Штейнера контуры теории познания. Мир, данный в чувственных восприятиях, есть иллюзия, майя призрачная действительность, и — не сам по себе, а через нас и для нас (Павел: «Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба… Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам мира». Гал. 4,1,3). Только через чистое активное мышление становится он полной действительностью, когда понятие освобождает вещь от чувственного покрова и обнаруживает в ней изначально присутствующую в ней мысль (Павел: «Но когда пришла полнота времени. Бог послал Сына Своего… дабы нам получить усыновление». Гал. 4,4–5). Познание, понятое так, оказывается искуплением тварного мира, падшего в первом Адаме, и восстановлением его истинного, нетленного облика во втором Адаме (Павел: «Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении… сеется тело душевное, восстает тело духовное». 1 Коринф. 15, 42, 44). Но постигший науку свободы (Павел: «Братия, мы дети не рабы, но свободной». Гал. 4,31) стоит уже в действительности свободы и не признает над собою никакой власти, кроме собственного высшего и уже божественного Я (Штейнер: «Исполненная мыслью жизнь есть… одновременно жизнь в Боге». — Павел: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Гал, 5, 1).