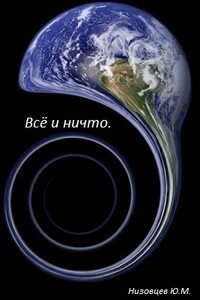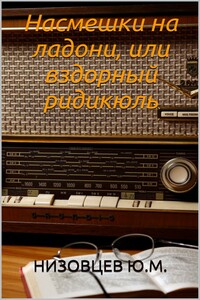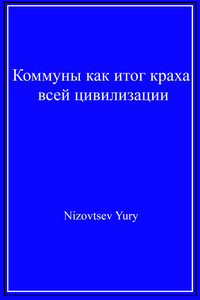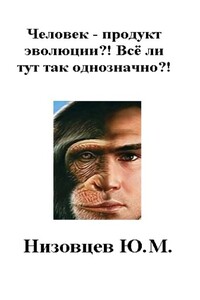Свобода, жизнь и сознание | страница 33
Свобода отнюдь не гармония между влечением и его реализацией, как полагает Фихте. Наоборот, это сила, контролирующая разрушение существующего порядка ради внедрения новых проектов сознания, тут же сменяющихся другими.
Фихте совершенно точно отмечает невозможность действия отдельного сознания в мире, но делает из этого неверный вывод, полагая, что объединение сознательных действий людей дадут свободу миру.
Полная реализация свободы в нашем мире, точнее, измерении невозможна в силу его антагонистичности. Да она и не нужна. Чтобы говорить о свободе, надо понимать, что она существует не сама по себе и для себя, и, тем более, не для человека в своем окончательном виде, а она существует как состояние души, способствующее развитию последней в любых условиях. Поэтому надо говорить, прежде всего, не о свободе – она лишь средство, – а о цели, коей является развитие души, преодолевающей все мыслимые препятствия в ходе своих неисчислимых жизней, чему способствует свободное состояние сознания, взаимодействующего с внешним для него миром. Поэтому и тело, и собственность нужны только на определенном этапе развития сознания, не способного в соответствии с имеющимся у него уровнем без них двигаться вперед. На самом же деле, в более высоких мирах ни тело, ни собственность, ни даже пол не требуются для души, достигшей соответствующего уровня развития после прохождения ею испытаний нашего мира, о чем, кстати, неоднократно говорил Христос.
Шеллинг Ф.
Шеллинг понимает под свободой не случайную возможность выбора, а внутреннее самоопределение в человеческой деятельности. Первичная воля вполне свободна, но те акты, в которых она проявляется, следуют один за другим с необходимостью и определяются ее первоначальной природой. Тут совмещается свобода с необходимостью.
Далее Шеллинг указывает, что свобода состоит в преодолении страха перед добром и в преодолении стремление ко злу, ибо добро требует самоотречения и умерщвления себялюбия. [21]
В данном подходе к понятию свободы Шеллинг, как и остальные его предшественники средних веков, не дает ни определения свободы, ни указывает на ее предназначение, а пытается разрешить неразрешимый вопрос – о том, как же может свобода для человека, в любом случае ограничиваемая бытием, сочетаться с необходимостью, порядком. Предложенное им решение сугубо схоластично, поскольку свобода, с одной стороны не совмещается с необходимостью, противостоя ей, а с другой стороны, в этом противостоянии они дополняют друг друга и не могут существовать друг без друга. Противостояние их сказывается в том, что благодаря свободе сознания человек, в отличие, например, от животных, только и делает, что сознательно нарушает порядок. А то, что они дополняют друг друга сказывается в том, что свободе требует какой-то порядок для собственной опоры и понимания того, что она способна его нарушить, а необходимость, порядок как бы подставляются свободе, поскольку свобода сознания не желает превратить порядок в хаос, а хочет только изменить его на другой – новый порядок, более интересный и любопытный для сознания, которому она принадлежит.