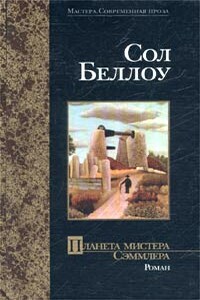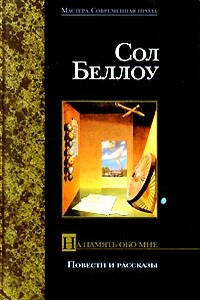Равельштейн | страница 37
Горман-младший, безусловно, тщательно фильтровал сведения, которыми делился с Равельштейном. Он рассказывал лишь то, что назавтра и так должно было появиться в пресс-релизах. Но он понимал, какое удовольствие доставляют Эйбу сводки последних новостей; из уважения и любви он всегда держал своего старого препода в курсе. Кроме того, Филип знал, какое количество исторической и политической информации тот постоянно держит в голове и ежеминутно обновляет. Все вплоть до Платона и Фукидида – а то и до Моисея. Великие образцы государственного мышления и политической прозорливости, включая Макиавелли, Септимия Севера и Каракаллу. Ему было жизненно необходимо вписать нынешние действия в Персидском заливе – проводимые ограниченными политиками вроде Буша и Бейкера – в большую картину мира, в политическую историю цивилизации. Что-то вроде этого имел в виду Равельштейн, когда говорил о Гормане, что тот понимает большую политику.
При любой возможности, по любому более-менее уважительному поводу Эйб срывался и летел в Париж. Но это не значит, что ему было плохо в Америке. Нет, он любил свой университет, где сам же учился у великого Даварра, и вообще был до мозга костей американцем.
Сам я вырос в городе, но семья Равельштейна до конца 30-х жила в Огайо. Отца его я не знал, однако Эйб описывал его как игрушечного тролля, брюзгливого коротышку и невротика – из тех никчемных тиранов, что орут на детей как ненормальные, всю жизнь разыгрывая бесконечную, безумную семейную драму.
Чтобы поступить в университет, надо было окончить старшие классы школы и сдать вступительные экзамены. Равельштейн поступил в пятнадцать – и наконец обрел свободу от ненавистного отца и столь же ненавистной сестры. Как я уже писал, свою мать он очень любил. Но в университете он распрощался со всеми Равельштейнами. «Там началась моя настоящая духовная жизнь, жизнь моего ума. Студенческое общежитие стало мне родным домом, и я обожал эти стены. Никогда не понимал Элиота с этим его “коченею в наемном доме”. Что, лучше откинуться в собственном?»
Однако же никому не завидуя (Равельштейну вообще была чужда зависть), он имел слабость к приятной обстановке и окружению. Он мечтал однажды поселиться в одном из фешенебельных многоквартирных домов, где жила исключительно университетская «белая кость». Проскитавшись двадцать лет по другим, менее престижным университетам, он вернулся в альма-матер в звании профессора и заполучил четырехкомнатную квартиру в самом престижном доме. Большинство окон выходили в темный двор, но дальше на запад простирался университетский городок с готическими шпилями из бедфордского известняка, лабораториями, общежитиями и административными зданиями. Эйб мог подолгу смотреть на башню часовни, похожую на обрезанную башню Бисмарка, и колокола, оглашавшие звоном всю университетскую округу. Став фигурой национального масштаба (и даже интернационального – одни японские роялти были, по его собственному выражению, «сумасшедшими»), Равельштейн переехал в одну из лучших квартир города. Окна выходили на все стороны света, и из них открывался прекрасный вид. Даже покойная мадам Глиф, некогда отчитавшая его за распитие содовой из бутылки, не могла похвастаться такими апартаментами.