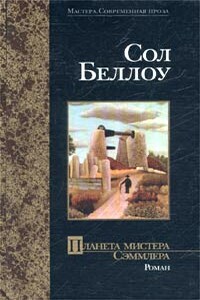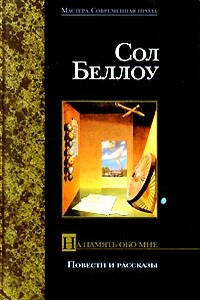Равельштейн | страница 36
Равельштейн ловил невероятный кайф, получая такого рода информацию. Как ребенок в стихотворении Лоуренса, сидевший «под огромным черным пиано аппассионато… в грохоте звенящих струн», пока его мать играла на рояле.
– Это были последние новости из Министерства обороны…
Почти все мы знали, что его главным информантом был Филип Горман. Папаша Гормана, сам ученый, страшно взбеленился, когда узнал, что его сын записался на лекции Равельштейна. Уважаемые профессора политической теории наговорили Горману-старшему всяких ужасов про Эйба: мол, тот соблазняет и растлевает своих студентов. «Патриарху доложили о пидорархе», шутил он.
Конечно, зашоренность Гормана-старшего не позволила ему отблагодарить Равельштейна за карьеру сына, так и не пошедшего в управленцы. «Теперь он – один из ближайших советников секретаря. У парня могучий ум и прекрасное политическое чутье, а этих менеджеров – как собак нерезаных».
Филип был одним из многочисленных учеников Равельштейна. Покидая стены его аудитории, они становились историками, преподавателями, журналистами, аналитиками, чиновниками, исследователями. За свою жизнь Эйб выпустил (обратил в свою секту) три или четыре поколения студентов. Они сходили по нему с ума. Они перенимали не только его взгляды и мысли, им необходимо было ходить как он, говорить как он – свободно, бурно, едко, блестяще. Самые молодые – те, что могли себе это позволить, – покупали костюмы от «Ланвен» и «Эрме», заказывали сорочки на Джермин-стрит в «Тернбулле и Ассере» («Киссере-ассере», как я их называл). Курили они также лихорадочно и нервно. Слушали ту же музыку. Равельштейн навсегда излечил их от любви к року и приучил к Моцарту, Россини, Альбинони и Фрескобальди («Слушать только на оригинальных инструментах!»). Распродав все альбомы «Битлз» и «Грейтфул дед», они теперь услаждали слух «Травиатой» с Марией Каллас в роли Виолетты.
– Вот увидишь, рано или поздно Горман станет министром – и стране это пойдет на пользу.
Равельштейн умудрился дать своим мальчикам прекрасное образование – в наши-то времена, названные Лео Штраусом «четвертой волной современности». Им можно было доверить секретную информацию, и естественно, они бы никогда не выдали государственную тайну своему учителю, который открыл им глаза на «большую политику». Было видно, как ответственность их меняет. Их лица становились решительней и взрослее. Они не зря соблюдали секретность: Равельштейн был жуткий сплетник, и они об этом знали. Но у него тоже имелись тайны, не подлежавшие разглашению – информация весьма личного и опасного характера, которую можно было доверить лишь единицам. Преподавание – как его видел Равельштейн – весьма тонкая и сложная штука. С одной стороны, нельзя разбрасываться фактами направо и налево. Но без фактов нет истинной жизни ума. Поэтому учитель вынужден принимать решения с ювелирной точностью. Два человека близко знали Эйба в Париже и три – по эту сторону Атлантического океана. Я был одним из них. Попросив меня написать «Житие Равельштейна», он дал мне право самому толковать его желания и решать, насколько его смерть дает мне свободу говорить о сокровенном. Кроме того, он понимал, что это сокровенное неизбежно будет рассмотрено через призму моего темперамента, чувств и воззрений. Впрочем, ему наверняка было все равно: к моменту выхода книги он бы давно лежал в могиле, а посмертная репутация не имела для него никакого значения.