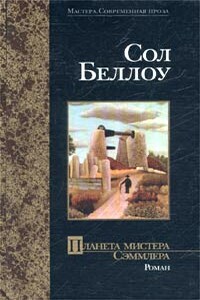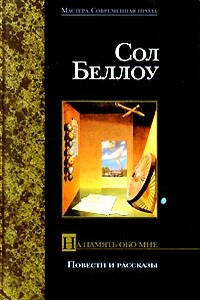Равельштейн | страница 22
– Рахмиэль когда-то был моим учителем, – сказал Эйб. – Потом преподавал в Лондонской школе экономики, а затем и в Оксфорде, где окончательно превратился в англичанина. Сколько его помню, он всегда разрывался между Штатами и Англией. Очень серьезный человек, не в ладах с самим собой. Но я ему многим обязан – своим нынешним положением в частности. Меня сослали в Миннесоту, а он помог мне встретиться с нужными людьми и в итоге добиться своего.
– Почти.
– Да, верно. Я единственный, у кого есть звание, но до сих пор нет именной кафедры. Впрочем, теперь меня скорее посадят на электрический стул, нежели за именную кафедру.
Поймите правильно, Равельштейн никогда не принимал всю эту университетскую грызню близко к сердцу. Однако сейчас не лучшее время о ней рассказывать, может, я вернусь к этой теме позже. Не зря же я писал, что хочу составить рваный и дробный портрет Равельштейна.
За ним всегда было любопытно наблюдать за столом, но к этому зрелищу еще надо было привыкнуть. Миссис Глиф, жена основателя его факультета, однажды заявила, что больше никогда не пригласит его на ужин. То была очень богатая леди, хорошо разбиравшаяся в литературе и искусстве; время от времени она принимала у себя всевозможных звезд. За ее столом побывали Р. Г. Тоуни, Бертран Рассел, какой-то известный французский ученый-фомист, чье имя мне никак не вспомнить (Маритен?) и куча всяких интеллектуалов, по большей части – французы. Эйба Равельштейна, тогда еще рядового преподавателя, пригласили на ужин в честь Т. С. Элиота. Когда Эйб уходил, Марла Глиф сказала ему: «Вы пили колу из бутылки – прямо на глазах потрясенного Элиота!»
Равельштейн любил рассказывать эту байку. И про старую миссис Глиф тоже любил посплетничать. Она родилась в невероятно богатой семье, ее муж был выдающийся востоковед.
– Такие люди нередко выставляют себя в привлекательном свете и постепенно, год за годом сплетают о себе потрясающие небылицы, – говорил Равельштейн. – Они превращаются в эдаких дивных стрекоз, что парят в атмосфере райского, безупречно оторванного от жизни мира. Потом они начинают писать друг о друге очерки, поэмы, целые книги…
– А ты взял и повел себя как последняя еврейская скотина – да еще за ужином с суперважным гостем.
– Что теперь подумает о нас Т.С.!
Впрочем, у меня есть основания полагать, что Равельштейн провинился не только распитием колы прямо из бутылки. (Да и что делала бутылка колы на столе у миссис Глиф?!) Университетские жены знали, что визит Равельштейна чреват долгой уборкой: он то и дело что-нибудь расплескивал, рассыпал, ужасно пачкал салфетки, крошил на пол, ронял куски мяса, разливал вино; пробовал блюдо – и, если оно ему не нравилось, резко отставлял тарелку, которая неизбежно падала со стола. Опытная хозяйка заблаговременно постелила бы под стул Эйба газеты. Причем он не сказал бы ни слова против. Он вообще не обращал внимания на такие вещи. Конечно, любой человек осознает, что происходит вокруг него. Эйб