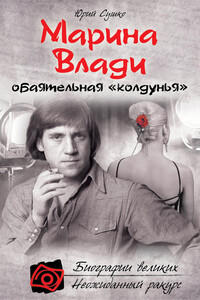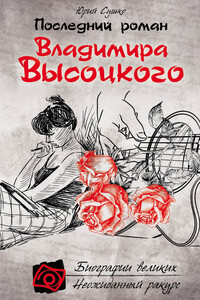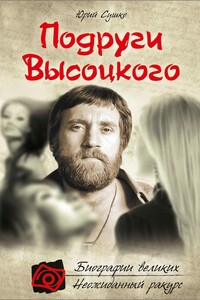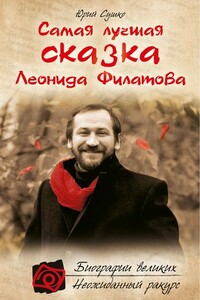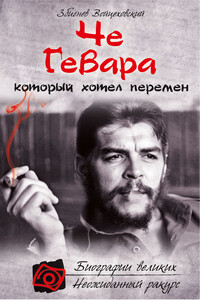Святые и порочные | страница 34
Долгое вступление с перечислением дат, по большому счету, мало что меняет – просто делает более правдоподобным брак Андрея с Улитой, дочерью казненного Долгоруким боярина Степана Кучко. Согласитесь, даже 30-летний (если родился в 1118 году или даже немного позже) неженатый князь по тем временам выглядел немного странно, а тем более если ему под сорок (если родился в 1110-м или раньше – свадьба ведь состоялась в 1148 году). По всей видимости, детство и юность Андрея прошли по большей части во Владимире – это вполне достойное обоснование тому, что именно Владимир он сделал впоследствии своей столицей. Но на тот момент это был лишь периферийный город Ростово-Суздальской земли. Лишь в 1146 году князь Андрей упоминается в летописях в связи с изгнанием из Рязани им и его старшим братом Ростиславом Юрьевичем князя Ростислава Ярославича. Судя по всему, с этого начинается военная карьера молодого князя в русских междоусобицах. В 1149 году, когда Юрий Долгорукий занял Киев, Андрей получил от отца в удел Вышгород, затем участвовал в походе на Волынь против Изяслава Мстиславича, изгнанного из Киева (это его союзником был упомянутый выше Ростислав Ярославич), отличился при штурме Луцка, где едва не погиб. Орденов тогда не раздавали, поэтому Андрей получил в удел Дорогобуж – но и здесь он не задержался: в 1151 году Изяслав собрал силы, вернулся и сумел отбить Киев. В 1153 году Юрий Долгорукий отправил его в Рязань, но вскоре вернувшийся из половецких степей с немалым войском Ростислав Ярославич вынудил его покинуть город. В 1154 году умер Изяслав. И Долгорукий, снова заняв престол в Киеве, отправил Андрея в уже знакомый ему Вышгород.
Именно там – года не прошло – и приключилась история с чудотворной иконой Богоматери, ныне Владимирской…
Вот как описывает события той ночи Костомаров: «Подговоривши священника женского монастыря Николая и диякона Нестора, Андрей ночью унес чудотворную икону из монастыря и вместе с княгинею и соумышленниками тотчас после того убежал в суздальскую землю…» Церковные источники обычно пишут, что целью беглецов был Ростов, однако уже Юрий Долгорукий фактически отодвинул Ростов на второй план – его фактической столицей был Суздаль, Андрей же намеревался, как писал далее Костомаров, «поднять город Владимир выше старейших городов Суздаля и Ростова, но он хранил эту мысль до поры до времени в тайне, а потому проехал Владимир с иконою мимо и не оставил ее там, где, по его плану, ей впоследствии быть надлежало. Но не хотел Андрей везти ее ни в Суздаль, ни в Ростов, потому что, по его расчету, этим городам не следовало давать первенства. За десять верст от Владимира по пути в Суздаль произошло чудо: кони под иконою вдруг стали; запрягают других посильнее, и те не могут сдвинуть воза с места. Князь остановился; раскинули шатер. Князь заснул, а поутру объявил, что ему являлась во сне Божия Матерь с хартиею в руке, приказала не везти ее икону в Ростов, а поставить во Владимире; на том же месте, где произошло видение, соорудить каменную церковь во имя Рождества Богородицы и основать при ней монастырь. В память такого видения написана была икона, изображавшая Божию Матерь в том виде, как она явилась Андрею с хартией в руке. Тогда на месте видения заложено было село, называемое Боголюбовым. Андрей состроил там богатую каменную церковь; ее утварь и иконы украшены были драгоценными камнями и финифтью, столпы и двери блистали позолотою. Там поставил он временно икону Св. Марии… Заложенное им село Боголюбово сделалось его любимым местопребыванием и усвоило ему в истории прозвище Боголюбского…» Вот так, всего лишь по своей резиденции назван был Андрей Боголюбским, а вовсе не за свою исключительную набожность, как думают многие – причем не только верующие. Судя по всему, те два года, что прошли после ухода Андрея из Вышгорода и до явно преждевременной смерти Долгорукого, Боголюбский потратил не зря – хотя отец его завещал Ростов и Суздаль своим младшим сыновьям, вече в этих городах избрало князем Андрея. Тем не менее от плана своего он не отступил и, как пишет далее Костомаров, «не поехал ни в Суздаль, ни в Ростов, а основал свою столицу во Владимире, построил там великолепную церковь Успения Богородицы… В этом храме поставил он похищенную из Вышгорода икону, которая с тех пор начала носить имя Владимирской…» Почему же похищенная святыня оказалась все-таки во Владимире-на-Клязьме? Тот же Костомаров довольно точно описывает сложившуюся на Руси в середине XII века ситуацию, способствовавшую такому выбору Боголюбского: «До сих пор в сознании русских для князей существовало два права – происхождения и избрания, но оба эти права перепутались и разрушились, особенно в южной Руси. Князья, мимо всякого старейшинства по рождению, добивались княжеских столов, а избрание перестало быть единодушным выбором всей земли и зависело от военной толпы – от дружин, так что, в сущности, удерживалось еще только одно право – право быть князьями на Руси лицам из Рюрикова дома; но какому князю где княжить, – для того уже не существовало никакого другого права, кроме силы и удачи…»