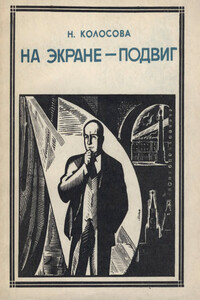Да, но это одно с другим в искусстве совместимо.
то потом стало совместимо, когда не осталось таких технических сложностей, когда тело обрело такое мясо, чтобы было, на что опирать и дать звук, когда началась такая громадная потенция по отношению к пению и к жизни — об этом не надо было думать. И это совпало как раз с моим дебютом в Амнерис в «Метрополитен Опера», когда я там, как тигрица, бросалась на стенки. Совершенно феноменальный был у меня дебют, когда двадцать минут там аплодировали, кричали, орали. Нужно было разбирать декорации, чтобы выйти на сцену, рабочие не хотели разбирать, а публика требовала, чтобы я вышла. Но все-таки пришлось разобрать. А я уже с заплаканным носом стояла и вышла как чучело на сцену. Так вот тогда я уже не думала о том, чтобы разделить как-то сценическое действо и певческое — это все было единым мощным потоком. Потом написали, что такой дебют был и у Биргит Нильсон, потому что она тоже никогда не думает, что и как она там шпарит. Но я опять сбилась с прямого пути в рассказе. Опять возвращаемся к технике пения. Я уже всем надоела, все спрашивала, спрашивала, все уже от меня устали, у всех «больших» все спрашивала, со всеми я беседы вела на тему техники пения. И поэтому я про всех все знаю теперь.
С Каллас не разговаривали?
ет, с Каллас про пение не говорила, только про любовь. Это была уникальная встреча у меня. Она была гениальная женщина. Именно женщина, а потому и гениальная певица.
И какой страшной личной судьбы! Страшной!
надо же нам было встретиться, чтобы она сразу со мной заговорила. Ну что это такое было? Вот так коленки наши сомкнулись рядышком, это в Париже, в «Гранд Опера», — и вот как током «Бум» — вот так. У меня два раза так было. Второй раз вот так током меня пробрало, когда я с Альгисом встретилась. И вдруг там, в Париже, Каллас мне говорит: «Все говорят, что я его не люблю, что это из-за денег. А я его люблю». Это она мне говорит в темноте, в зале. Представляешь, что со мной было?
По-итальянски?
ет, по-французски.
Она хорошо говорила по-французски?
а-да, замечательно. И потом она меня позвала с собой ночью в ресторан, мы сидели в «Максиме», ели устрицы, пили белое вино. И она мне всю ночь рассказывала. Ей надо было выговориться — можно сказать, канал открылся. А в пять утра я прибежала к Маквале Касрашвили.
Это какой год?
то когда Большой театр был в Париже. Семьдесят четвертый, по-моему.
А она видела вас в роли Марины?