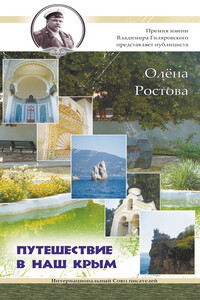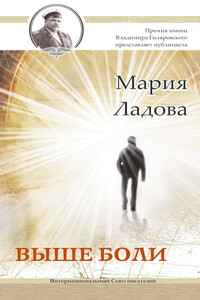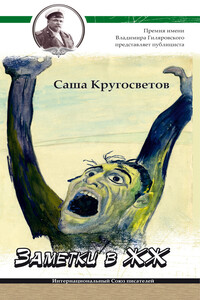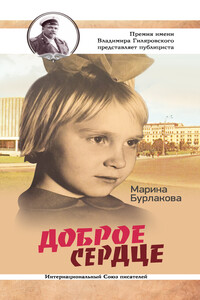Сигнализация | страница 32
Ставрогин, таким образом, одержим самым последним, «конечным» бесовским искушением, полным и абсолютным неприятием всех без исключения жизненных ценностей, полным и абсолютным неразличием добра и зла, отказом не от любой этической категории. Неслучайно идеи Шатова, Кириллова, Верховенского восходят к нему как к своей предтече и основе, но Ставрогин идёт глубже каждого из них в разрушении нравственного мира личности и человечества. В этом смысле его образ абсолютен, это не аллегория русского общественного сознания 60–70 годов, но всечеловеческий символ. И слова, взятые из Откровения Святого Иоанна Богослова и включённые в главу «Последнее странствование Ивана Трофимовича», не только перекликаются с образом Ставрогина, но и являются для Ф. М. Достоевского важнейшей характеристикой корней русской «бесовщины». «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: „…Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих“».
Ф. М. Достоевский и «бесы» рационального православия
Казалось бы, резко и принципиально отличается от позиций Верховенского, Шингалёва, Кириллова идея Шатова. Она сразу в комплексе отрицает тот набор ценностей, на который так или иначе опирались названные выше герои, – отрицает атеизм, нигилизм, социализм, рациональность. Его идея в отличие от многих других ясна и прозрачна: он верит в богоизбранность русского народа, в того Бога, того Христа, который есть исключительно атрибут русского православия: «Атеист не может быть русским… Неправославный не может быть русским… Единый народ „богоносец“ – это русский народ». Все эти рассуждения на первый взгляд весьма созвучны мировоззрению самого Достоевского. Поэтому делались попытки представить Шатова рупором авторитарной идеи в романе, своего рода положительным началом, противостоящим всем «бесам». Однако при ближайшем рассмотрении Шатов оказывается вовсе не тождественным автору… Прежде всего в том, что его вера не самостоятельна и не тверда. Будучи сначала приверженцем социализма и атеизма, Шатов затем получает от Ставрогина идею «русского бога» практически в готовом виде: «Нашего» разговора совсем и не было: был учитель, вещавший огромные слова, и был ученик, воскресший из мёртвых. Я тот ученик, а вы учитель».
Но есть и более существенный момент, отличающий веру Шатова от веры Достоевского. Ставрогин, со свойственной ему проницательностью, почти сразу же нащупывает критическую точку – не в идее самой по себе, потому что это же им и порожденная идея, а в личностном освоении идеи Шатовым: «…я хотел лишь узнать: веруете вы сами в бога или нет?