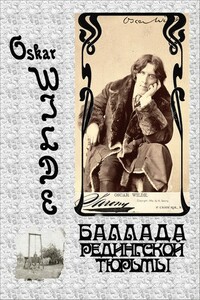Стихотворения и поэмы | страница 25
Еще более показателен суммарный образ цыганки в одноименном стихотворении. Поэт видит свою героиню идущей «перед толпою на широкой площади́»:
Полежаевский портрет цыганки в свое время поставил в тупик А. В. Дружинина. «Читатель, — писал он, — даже не может дать себе отчета, какого рода цыганку описывает поэт — молода или стара эта цыганка… Поэт даже как бы нарочно запутывает представления; сладостные речи у него выходят страшнее ударов сечи, дивная жена имеет в глазах разбежавшиеся искры наглости… а в результате сам читатель сбивается с толку и не может решить, о ком говорено было поэтом: о прекрасной ли девушке цыганского племени или о мрачной ведьме из того же народа».[23] В своей придирчивой критике стихотворения с позиции художественного подобия жизни Дружинин довольно верно передал суть этого мозаичного, множественного, но отнюдь не индивидуального образа. Полежаевская цыганка — суммарный образ разных женских типов цыганского племени. В этот зыблющийся (и тоже оборотнический) портрет введены черты и цыганки — вещей предсказательницы судьбы, и молодой темпераментной артистки, и нескромной прельстительницы.
Пребывание в таком странном мире, внезапно меняющем свой облик, где необозримые человеческие множества (а множественность сродни неопределенности, неоднородности, хаотичности) сами не ведают, какие события они могут развязать, отдавало его во власть неведомых сил. А это влекло за собой мистификацию действительности.
Богоборческие идеи, столь ярко сказавшиеся в шестой главе «<Узника>», все же не избавили поэта от некоторых рудиментов религиозного сознания. Мысль о том, что «система звезд, прыжок сверчка, Движенье моря и смычка» — созданья «творческой руки», то есть что бог — зодчий природы, отнюдь не оспаривается в этом произведении. В контексте других стихотворений («Ожесточенный», «Осужденный», «Атеисту», «Отчаяние») природа и бог — понятия смежные, если не тождественные. В «Отчаянии», например, природа мыслится как прямой заместитель бога, причем здесь ей приписана даже божественная миссия воскрешения мертвых. В этом можно усмотреть признаки тяготения Полежаева к пантеистическим воззрениям, но не более того. Ведь поэт не раз обращался к природе как антропоморфному и разумному существу, способному покарать, понять и простить его.