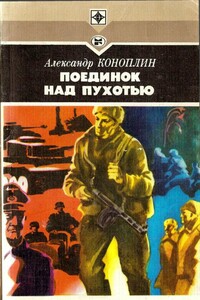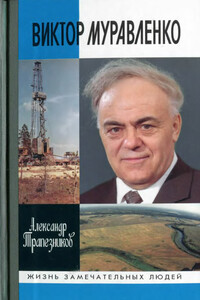Шесть зим и одно лето | страница 46
За восемнадцать часов бдения можно перелопатить и не такую жизнь, как моя. Так ли я жил, как надо? Не делал ли подлостей другим, не грабил ли, не убивал? Насчет грабежа был уверен: не грабил. Чужое в нашей семье считалось неприкосновенным. Иное дело — убийство. Хотя что, собственно, можно считать убийством? Если бандит всаживает нож в спину прохожего, это, конечно, убийство. А как быть с нами, солдатами? Ежу понятно, что, если у солдата в руках винтовка и от него требуют выполнения служебного долга, он обязан выстрелить во врага, иначе либо он тебя убьет, либо ты пойдешь под трибунал. Правда, у меня была не винтовка, а восьмидесятимиллиметровое зенитное орудие с броневым щитом, предназначенное также для стрельбы прямой наводкой по наземным целям. Но ведь в самолетах, которые мы иногда сбивали, тоже были люди, и в танках, по которым в марте сорок четвертого года нам пришлось стрелять, тоже находились живые люди, и стрельба картечью по пехоте несколько ранее — тоже наверное не обошлась без крови! Да, из винтовки по немцам я не стрелял, потому что был артиллеристом, но зато в апреле — мае сорок пятого, уже на территории Германии, вовсю стрелял из трофейного оружия — карабинов, автоматов, пистолетов — не по немцам, а по случайным мишеням: фарфоровым вазам, забытым на окнах бежавшими в спешке хозяевами, электроизоляторам на высоковольтных столбах, чтобы посмотреть на красочный фейерверк, по лепным изображениям на стенах костелов. Убивал ли я кого-нибудь в этой сумасшедшей стрельбе? Вряд ли. По крайней мере, специально ни в кого не целился.
Кстати, стрелял не один я. Любителей пострелять ловили старшие по званию, строго материли и, отобрав парабеллум или вальтер, сами принимались палить…
Так у меня обстояли дела с заповедью «не убий». Чист был я и по поводу «не сотвори прелюбы», ибо до ухода в армию не целовал никого, кроме матери. Заповедь «не пожелай ни жены ближнего своего, ни раба его, ни вола его» также меня не касалась — чего-чего, а уж подлой зависти во мне не было! Столь же уверенно разделался я и с остальными семью заповедями и споткнулся только на доброте. Припомнился мне странный нищий — было это задолго до войны, году в тридцать шестом или тридцать седьмом. Я играл с приятелями возле дома, когда в конце улицы показался человек в рубище с холщовой сумкой на боку. Нищие в наших краях — не диво, но этот был какой-то особенный. Во-первых, у него не было палки; во-вторых, шел он не сгибая спины, и шаг его был широк и ровен, а взгляд смел и прям. Голос же прозвучал не просяще, а, скорее, требовательно: