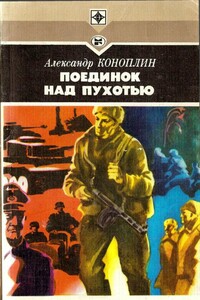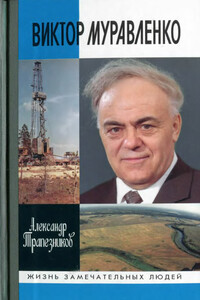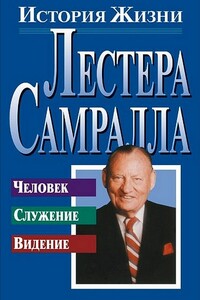Шесть зим и одно лето | страница 45
Иначе вел себя Шевченко. Старый друг взвалил на меня едва ли не самое серьезное обвинение — не считая, конечно, союза СДПШ. На одном из допросов он показал, что однажды, после концерта художественной самодеятельности, где я выступал клоуном, я спел песенку: «Расскажи, расскажи, бродяга, чей ты родом, откуда ты» — и при этом указал на портрет товарища Сталина, который висел позади меня на стене. Наблюдавший за следствием подполковник Синяк сказал, что, даже если отпадет обвинение в организации контрреволюционного союза, этого факта хватит, чтобы осудить меня на десять лет ИТЛ.
Все так и произошло.
Попутно с сочинительством я занимался самоанализом. Одиночная камера с решеткой на окне, через которое видно только небо, серые бетонные стены без надписей, отсутствие собеседников, наконец, полная неизвестность — всё, как нельзя лучше, способствует углублению в самоё себя. На свободе такие условия немыслимы.
Особой разницы между тюрьмой и казармой я не заметил, разве что в праздники не водили строем смотреть в сотый раз «Ленина в Октябре» и «Великое зарево» — картины, которые у нас в полку постоянно крутили последние три года, — да не было праздничных ста граммов водки.
Немаловажным было для меня и полное отсутствие страха: я знал, что невиновен, стало быть, подержат и отпустят, а если все-таки осудят, то чем можно напугать солдата, год и четыре месяца бывшего на передовой? Кроме того, здесь я был предоставлен самому себе — нет больше начальства, не вытягивает душу замполит, добиваясь ответа на вопрос согласно теме: почему мы победили в Отечественной войне, и даже мой следователь — после полугода усилий сотворить из меня американского шпиона — поутих и стал дергать на допросы с большими перерывами — что-то не срабатывало в налаженной схеме.
Мой «уход в себя» начинался сразу после приема пищи — назвать завтраком то, что подавалось через «кормушку», как-то не поворачивался язык — и продолжался иногда до глубокой ночи. До того часа или, скорее, минуты, когда откроется наконец железная дверь и надзиратель скажет, указывая на прислоненный к стене топчан: «Забирай!» — и я втащу сколоченные вместе три неструганых доски на ножках к себе в одиночку, поставлю их строго напротив «глазка» и шлепнусь на них, тут же провалившись в блаженное беспамятство без сновидений, и мое тело, измученное восемнадцатичасовым хождением по камере, будет отдыхать…
В процессе засыпания нельзя терять ни минуты — ровно в пять утра — всего через шесть часов — тот же надзиратель крикнет совсем другим голосом: «Подъем!» От его крика я проснусь и, путаясь в полах шинели, ставшей очень широкой без хлястика, поволоку топчан в коридор. Лишь в половине двенадцатого ночи — да и то если следователь не вызовет на допрос — снова обниму его обеими руками и прижмусь к его черной от грязи поверхности.