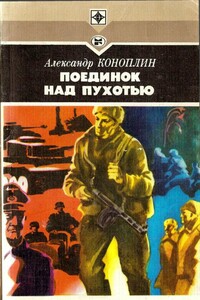Шесть зим и одно лето | страница 29
— Гады! Сволочи! Суки позорные! А ты, бандит, иди сюда! — и втолкнул меня в соседнюю камеру. Воды здесь не было, но не было и света. От боли во всем теле — «молотобойцы» гражданина следователя постарались — я едва стоял на ногах, а когда лег, ощутил под боком не бетон, а что-то мягкое. Пощупав рукой, определил: ветошь… Каптерка! Спасибо, друг!
Мгновенно заснул.
Карцеры плохи прежде всего тем, что в них нельзя спать днем. Топчан вносят в одиннадцать вечера, а в пять утра убирают, все дневное время заключенный должен стоять или ходить по узкому бетонному колодцу, если же к этому добавить воды, то даже на корточки присесть у стены нельзя — все вокруг пропитывается сыростью. Камера, куда я попал теперь, была хороша тем, что позволяла спать сколько душе угодно. Кормежка, правда, сохранялась штрафная — горячая пища раз в три дня, в остальное время — немного хлеба и две кружки воды, но, когда дежурил старик, появлялся майор Волобуев и подбрасывал мне то хлеба, то луковицу, а однажды, вынося «парашу», сунул кусок сала. Несмотря на поддержку, у меня на четвертые сутки начала кружиться голова, на шестые я почти все время лежал. По прошествии семи суток поздно вечером за мной пришли. Дежурил как раз старик, Волобуев драил пол в коридоре. Мы кивнули друг другу, а мне надо было сказать ему: «Спасибо, век тебя не забуду!»
После карцера меня почему-то передали другому следователю — молодому, жилистому, с черными усиками и бакенбардами. Допросы велись по-прежнему ночами, и вопросы задавались те же самые, и, как раньше, меня привязывали к табуретке, только теперь не веревкой, а с помощью наручников. Фамилия нового следователя была Кишкин. У него тоже были погоны военно-воздушных сил, но к тому времени я уже знал, что следователи контрразведок носят погоны той части, за которой числятся. Капитан Кишкин летал только в лифте. При нем меня стали бить чаще и упорнее. Изредка в комнату заходил наблюдавший за следствием подполковник Синяк — пахнущий одеколоном человек с сытым, лоснящимся лицом и лакированными ногтями — и еще один — должно быть, его помощник — веселый малый, живой, как хорек, всякий раз начинавший свою работу с включения радио на полную мощность. Ни лица его, ни фамилии я не запомнил, но хорошо помню его излюбленный удар: ребром ладони в бок. Подполковник же бил редко, и никогда — голой рукой: боялся поломать свои красивые ногти.
Майор Волобуев оказался последним зэком, которого я видел до конца августа. С начала сентября меня перевели в камеру-одиночку и продержали там одиннадцать месяцев, постоянно допрашивая. Обнаруженный у меня при обыске дневник, в котором, кроме эпиграмм и анекдотов, был записан «Устав союза СДПШ», для следователя явился находкой, а для меня катастрофой. Вполне безобидные, разве что иногда ёрнические, пункты «Устава» следователь Кишкин умудрился прочесть как антисоветские, направленные на свержение социалистического строя. Ему незачем было подсовывать мне готовый протокол «чистосердечного признания», он со спокойной совестью допрашивал меня по пунктам: для чего создан союз СДПШ, какие цели мы преследовали, сколько было его членов, от кого мы получали задания, где были явки. Из ряда идиотских эти вопросы сразу перешли в разряд серьезных. В середине сентября арестовали Полосина, Шевченко пока оставался на свободе. Несмотря на мое упорное нежелание признавать за своим союзом антисоветский характер, следователь упорно искал доказательств в обратном. «Дело» мое разрасталось. С ноября появились вопросы, касавшиеся нашего мистического «хозяина», меня уговаривали не бояться, назвать его имя, фамилию и воинское звание, и даже подсказывали какую-то фамилию — кажется, генерал-полковника. Получив отказ, огорчались и били уже собственноручно — у Кишкина оказались крепкие кулаки и ботинки с жестким рантом… В допросах, мордобое и ночных бдениях прошла осень, наступила зима. Одиночка моя промерзала от пола до потолка — в Минской центральной тюрьме отопления не полагалось — на стенах серебрился иней. Как назло, я ничем не болел. Простуженный следователь Кишкин, кашляя и чихая, ворчал: