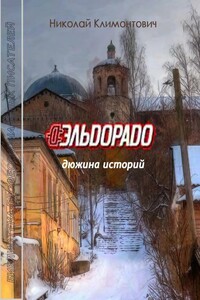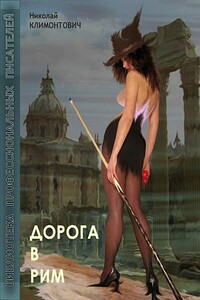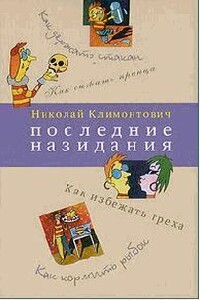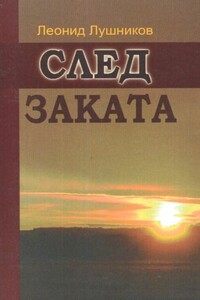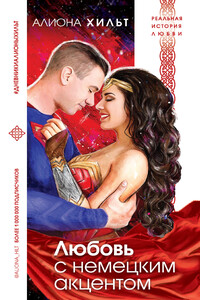Парадокс о европейце | страница 50
– Жена сказала, звонила Фэй.
– Да, – откликнулся я, боясь взять бокал, чтобы не было видно, как у меня задрожали руки.
– У нее, что ли, ребенок заболел.
Он сказал may be ill. То есть, может быть, вовсе и не заболел, хватался я за соломинку. Я знал, что у нее есть ребенок. Где-то там, в деревне. Здесь у всех туземок старше тринадцати обязательно были дети. Особенно у официанток и уборщиц. Но Фэй относилась к факту своего материнства равнодушно, я – тем более.
– Она нашла себе работу, – сказал Джанг. Это был уже second good reason. Вторая хорошая причина, по которой я больше не увижу Фэй.
– Да, – сказал я.
– В Паттайе, в баре.
Я понял, что сейчас же поплыву в Паттайю. В следующую секунду я понял, что никуда не поплыву.
– Сколько с меня? – спросил я, поднимаясь. Спросил, хоть отлично знал цену.
– Ничего, – сказал Джанг. – Сегодня ничего.
Я остался сидеть. Механически пил пиво, казавшееся горьким, и впервые задал себе вопрос: кем, собственно, была для меня Фэй? Цветком тропиков, рыбкой из океана. Или просто гладким гибким молодым телом, хорошо пахнувшим на рассвете. Что ж, теперь она навсегда стала обитательницей моего острова. Такой же постоялицей, как многие другие, кого я помнил. Последнего острова, что у меня остался.
Парадокс о европейце
Часть первая
Однажды мне было видение, я как-то рассказывал об этом. Я увидел своего деда, расстрелянного за двенадцать лет до моего рождения.
Я встретил его, выпив полбутылки местного рома, на пляже далекого тропического острова. Дед широко шагал по песку мне навстречу. Был он в свободных белых брюках для занятий lown-tennis’ом, в белой сорочке-безрукавке, в добела начищенных зубным порошком парусиновых туфлях. У него была ухоженная седоватая бородка – в такой играл Дон Кихота Черкасов. Высок и очень худ. Тогда я разглядел даже желтую от возраста плоскую пуговицу, на какую был застегнут его пояс: как ей было не пожелтеть за истекшие три четверти века.
Поскольку Иозефа забрали как раз на выходе с корта, – возможно, обыск в доме хотели произвести в его отсутствие, – в этих самых белых штанах в одной из нижних камер Лубянки он дожидался расстрела почти три года. Думаю, его держали так долго в живых, используя для своих целей, в качестве ходячего энциклопедического словаря (1). Его дочь и моя мать в недолгий просвет общей несвободы, поймав краткий миг послаблений, получила на Лубянке на час дело своего отца. Возвращая папку, спросила молоденького румяного следователя: его били?