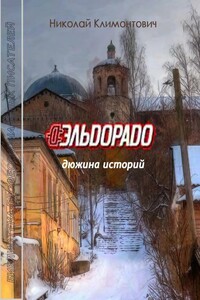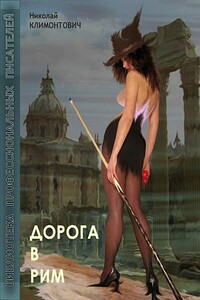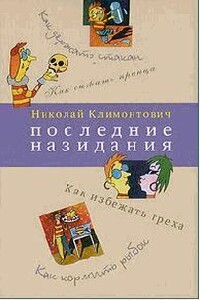Парадокс о европейце | страница 49
Читал я всю ночь, а перед рассветом и у меня было видение. Я увидел, что по берегу идет мой мертвый отец. И говорит сам с собой. Ходасевич после похорон Блока записал: есть люди, которые в гробу хорошеют. Так было с моим отцом, он был удивительно хорош в гробу со своими густыми до старости, длинными и красивыми седыми волосами. Потом, после похорон, он долго всякую ночь снился мне. Почти в каждом из этих снов он выручал меня из каких-то неприятных, подчас гнусных, говорить не хочется, передряг… Я всегда очень любил его, хоть не нашел при его жизни минутки ему об этом сказать. Да между нами и не было принято нежничать. Теперь, встретив его, я сказал ему только: я тебя ждал, добро пожаловать. Хоть и сомневался, что он заметил меня.
Не могу объяснить отчего, но утром именно этого дня я решил покончить со всем этим делом – и утопиться, что ли. Возможно, я решил, что отец зовет меня. Я даже зашел в воду и поплыл прочь от берега. Но вдруг стал захлебываться, а ведь я хорошо плаваю. Соблазнительно было думать, что это сам Океан не принимает от меня жертвы. И менее соблазнительно, что я оказался слабым и негодным самоубийцей, и у меня попросту не хватило воли умереть.
То ли в тот же день, то ли на следующий, я увидел идущего ко мне по песку босиком, в белых хлопчатобумажных широких штанах для занятий lown-tennis’ом и в хлопчатой же белой сорочке-безрукавке моего деда Иосифа М. Худого и высокого, с ухоженной седоватой бородкой, в такой играл Дон Кихота Черкасов.
Его забрали в тридцать шестом как раз после тенниса, и в этих самых штанах в одной из нижних камер Лубянки он дожидался расстрела почти три года. Сейчас я разглядел даже желтую от возраста плоскую пуговицу, на какую был застегнут его пояс. Думаю, его держали так долго в живых, используя для своих целей в качестве энциклопедического словаря. Моя мать, в недолгий просвет общей несвободы, поймав краткий момент послаблений, получила на Лубянке на час дело своего отца. Возвращая папку, спросила следователя: его били? Таких людей бить бесполезно, отвечал тот.
Деда расстреляли за двенадцать лет до моего рождения. Теперь, здесь, на берегу, он, кажется, что-то сказал мне, но я не расслышал что именно. Впрочем, мне показалось, по движениям его губ я прочел: напиши, ибо слова эти истинны и верны…
Сиесту я коротал в баре под вентилятором.
Остров совсем опустел, даже немцев теперь не стало, хоть до того немцы – сколь смирны они ни были – все одно меня раздражали своим пением по вечерам. Я хотел за выпивкой мягко выведать у Джанга – он когда-то закончил полтора курса в колледже и немного понимал по-английски – не было ли весточки от Фэй. Но, уже подойдя к бару, я увидел картину, от которой у меня возникло ощущение слабости в желудке – это был страх. На веранде очень крупная для туземки, почти черная от загара баба вытирала со столов, а двое чумазых ребятишек цеплялись за полу ее пестрой юбки. Я опустился на стул и, стараясь унять тут же заболевшее сердце, бедное свое слабое старое сердце, стал наблюдать за белой дворнягой, моей доброй знакомой, всегда лежавшей на пороге бара. Сейчас к ней заглянула рыжая подруга, и они дружелюбно обнюхались. Рыжая уселась перед моим столиком. Тогда белая аккуратно потянула ее за лодыжку задней лапы: