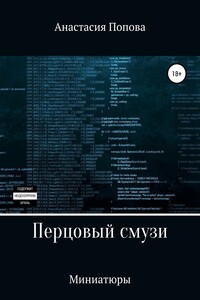Мраморный лебедь | страница 49
И вот я сижу в 1965 году на «Добром человеке…».
Мы ведь все тогда по-комсомольски думали, что все внешнее не имеет ни малейшего значения, важно – что у тебя внутри. Набоков писал о нас, о советских людях, что мы не моемся. Что у нас положительный герой плеснет себе утром воды в лицо, чтобы очнуться от бессонной ночи, и все. Полуположительные моют руки. И только форменные предатели заботятся о своем теле. Лицо еще как-то могло быть милым, умным, привлекательным, даже, в самом крайнем случае, красивым, но, конечно, не тело. Мы с ужасом думали о том, сколько стоит «сия чистота». Мы, конечно, догадывались, что плащ-болонья и джинсы приобщают нас ко всему человечеству, а не только к своей унылой социальной прослойке, но молчали…
Я увидела на сцене артистов молодых и красивых, с красивыми, сильными, накачанными, пружинистыми телами. Они играли все роли – и стариков, и юношей. Они были одеты именно в то, что приобщало их ко всему человечеству: они были в джинсах и черных свитерах.
Волчья поджарость Таганки, втянутые, плоские, барабанные животы били по советской власти, по ее партийному руководству – с узкими плечами, жирными женскими боками, с необъятными задницами, застарелой одышкой и старческим маразмом – больнее, чем политические намеки.
Эти артисты были эротичны. Юрий Любимов вернул театру эротичность – это его первичное свойство, отнятое у всех остальных советских подмостков.
Нормой речи эпохи были стихи (ритмически организованный текст наперекор бесформенной массе выхолощенных, кастрированных слов, селем текущих с трибун).
Музыкальным инструментом была гитара. Струны рвали, терзали, перебирали.
И голоса у мужчин-артистов были иные, чем позволительно: они хрипели, они шептали, они обволакивали, они обнимали, они завораживали:
Валерий Золотухин (спустя сорок семь лет я написала предисловие к его последней книге дневников, перед самой его смертью) играл в «Добром человеке…» Водоноса. В нем была профильная, летящая легкость, способность промелькнуть, оставив фантомный след в воздухе, эта льняная простота хуже воровства, отнимавшая способность сопротивляться его обаянию. Он был добрым, наивным обманутым Водоносом, певшим под дождем:
Он наклонялся и сгибался, как наклоняется и сгибается складной нож, и эта нерастраченная страстная сила согнутого складного ножа сохранилась в его актерской личности навсегда – он никогда не поет до дна голоса; скупой рыцарь актерского арсенала, – это дорогого стоит в большом артисте.