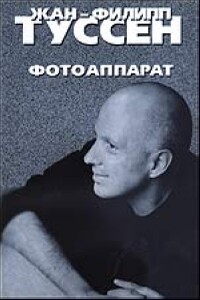Мраморный лебедь | страница 34
А еще я почему-то часто вспоминаю, как в пятом классе решили мы сделать подпольную стенную газету. И в ней, как тогда говорили, «протянуть» нескольких доносчиков, по-тогдашнему – ябед. Двое мальчиков нарисовали на листе ватмана карикатуры, я написала разоблачительные стишки; лист остался у меня дома; мы договорились прийти назавтра в школу пораньше и вывесить газету на доске. Вечером я с жаром рассказала о наших праведных планах родителям. И мама отговорила меня. Она упрашивала, она плакала, она просила сделать это ради нее. Она, жена космополита, умоляла ее пожалеть. Она говорила, что я еще не знаю, как страшна жизнь, какие ужасные подножки она ставит, как натягивает тонкую проволоку на уровне щиколоток.
Друзья отвернулись от меня с брезгливостью. Я пошла на стройку возле нашего дома и спрыгнула в песок со второго этажа. Чтобы мне стало больно. Рентген показал трещину в щиколотке.
В другой раз я симулировала приступ аппендицита с такой натуральностью, что дежурный хирург, поколебавшись, положил меня на операционный стол и вырезал аппендикс под местным наркозом. Я потом написала в стихах, что так криком заглушают боль, а болью заглушают горечь.
А совсем недавно я прочла, что есть такая редчайшая болезнь: человеку кажется, что у него лишняя нога или рука, что он нуждается в ампутации. И если у него хватает денег, то он этой ампутации добивается, надевает протез и чувствует себя счастливым.
Волнорез
Разбивая грудь, коверкая тело, вода вжималась в бетонный выступ, кралась, распластываясь; различим был силуэт девушки в длинном платье, с заплетенной косой; вдруг все обратилось в белые пенистые брызги, волна хохотала, а состарившись ушла, шаркая по мокрому песку.
– Всего-то я, маманя, попробовал, все испытал, теперь жизнь посмотреть надо – в тюрьму хочу, – шептал Сашка, запуская в тугой, сразу расслабившийся, распустившийся живот Арсения нож со светлым, как память, лезвием.
Море легло на бок и поплыло назад, к горизонту; тонуло, захлебывалось, выбрасывало руку с белым гребешком, сползало на дно, и еще долго на пляже оставался белый вспухнувший след. Ребенок играл им, подбрасывая вверх пузырьки, пока мать не позвала его обедать. Тогда он спрятался за камнями и от волнения стал грызть маленький булыжник. Ребенок был угрюм, и сок стекал у него по подбородку.
– Ты пойми меня, пойми, – пел тенор, подставляя солнцу белую накрахмаленную целлулоидную грудь, обращаясь к черной лакированной голове баритона, похожей на концертный ботинок, у которого не в центре, где идет шнуровка, а чуть левее, где на пальце мозоль – будто перстень с печаткой приподнят над всеми и оглядывает другие пальцы с высокомерием сюзерена – прочерчен пробор идеальной линии; тенор пел, щекоча альвеолы, – вот ты, баритон, ты жалеешь себя и лелеешь, сидишь на диете и плаваешь в бассейне, а я, истинный художник, живу вразнос – жру с утра до вечера, не останавливаясь.