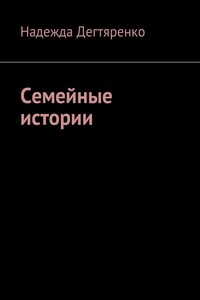Тень без имени | страница 44
В декабре 1917 года, спустя всего несколько месяцев после дуэли, мне не составило труда поступить в качестве бригадира в состав запаса австрийской пехоты. В тех условиях тронутое разложением войско Австро-Венгерской империи превратилось в вожделенное место для всяческого сброда, включая беженцев из России, независимо от того, являлись они казаками или нет. Всех принимали как будущих героев, которым предстояло закончить свои дни в траншеях. Действительно, мой мрачный вид, российский паспорт и незнание немецкого языка не переставали вызывать подозрение у вышестоящего начальства, однако в то время никто не мог с достоверностью утверждать, какому знамени должен был верно служить уроженец Дона. Несколько лет назад сто тысяч казаков нашли свою смерть в Карпатах, сражаясь против прусских войск. Теперь же казаки боролись на стороне кайзера и императора в надежде на то, что им удастся отхватить у Керенского кусок русской земли, на котором они могли бы похоронить своих мертвецов. В своих постоянных метаниях украинские казаки испытывали терзания из-за несоответствия между верностью своему народу и несбывшимися надеждами на вознаграждение за свою службу. Казаки привычно для себя становились жертвами предательства и кровавых конфликтов. Даже на Украине, уже опустошенной большевистской революцией, безжалостно рвали друг друга на части Белая и Красная армии, для которых наемники из казаков выполняли, уже в который раз, роль пушечного мяса. Тем не менее многие, подобно моему брату, продолжали упорствовать, не соглашаясь с тем, что удача казака состоит лишь в том, чтобы оказаться ссыльным или выжившим. Таким образом, говорить о верности казаков, сражавшихся в ходе Первой мировой войны на стороне австрийцев, было бессмысленно, как и о верности хорватов и других народов, воевавших за Австро-Венгерскую империю, которая начинала растворяться в истории со скоростью исчезновения черта перед всенощной службой.
Вряд ли стоит доказывать, что война, оказавшаяся абсолютным крахом всего того, во что когда-то верили мои отец и брат, должна была превратиться для меня в нечто большее, чем просто воинская служба. Весь этот ад, которым была эта война, как нельзя более укрепил мой скептицизм и в какой-то степени послужил оправданием моего убийства Петро. Это помогло мне справиться с тем хаосом, который царил в моей душе. Давно уже мои последние запасы верности и поэзии истекли кровью на украинских снегах. Грустным воспоминанием о них оставалась для меня культя вместо руки, постоянно напоминая мне о причинах дуэли и служа аргументом в защиту моей позиции отрицания в спорах с отцом, считавшим, что все происходит в соответствии с установленным Богом порядком. Тем не менее иногда этот никчемный отросток, напоминающий трость слепца, вызывал во мне страх, — мне казалось, что, даже умирая, брат не отрекся от своего ошибочного идеализма. Убив Петро, я не стер из памяти ненавистную фигуру моего отца, а, напротив, в некоторой степени увековечил его образ, как и образ брата. Мой брат умер, не дав мне возможности вывести его из заблуждения и насладиться созерцанием осознания им ошибочности своих убеждений. В связи с этим его отсутствие бросило меня на столь неустойчивую почву, что иногда я сам пугался того, что где-то в глубине моей души еще жила частица добродетели, вызывавшая угрызения совести и даже сострадание к людям. Я не мог до конца избавиться от этих сомнений, и, хотя иногда мне удавалось забыть о них, они продолжали настойчиво материализоваться в повторяющемся призрачном сне, в котором я ехал на коне по северному берегу Дона рядом с братом. Потрепанный в боях казачий полк наблюдал в полной тишине за нами с другого берега, как бы завидуя нашему с Петро отважному спокойствию, с каким мы передвигались по той опасной территории, которой они не смогли достигнуть. Вдруг за спиной мне послышался голос моей бабушки, единственного человека, к которому я, кажется, чувствовал любовь, тоже издевавшейся над казаками и со смехом вспоминавшей похороны поэта Лермонтова, последнего и, по ее словам, самого глупого из всех романтиков. Она говорила без досады, а скорее устало — после восьмидесяти лет жизни на берегах Каспия — и повествовала о дуэли поэта как о злой шутке, не лишенной элементов буффонады.