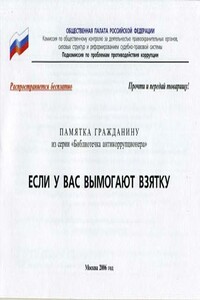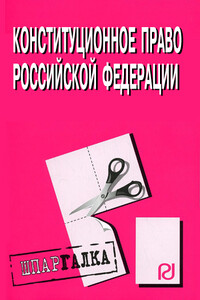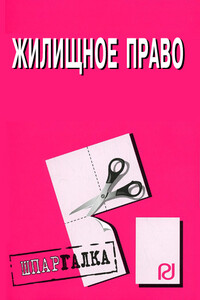Правоохранительные и судебные системы глазами рецидивиста | страница 30
Факт 16: Во-первых, множественность ударов следует лишь из показаний самой «потерпевшей» и это в корне противоречит заключениям экспертов, которые не нашли на ее голове никаких следов множественных ударов, а ведь «потерпевшая» говорила не менее чем о 12 ударах в голову не только кулаками, но и ногами, говорила про удар головой о железную дверь, удар кулаком в весок, настолько сильный, что он отбросил ее до железной двери (аж на расстояние 3 метра), говорила она и про удар затылком о тумбочку. И что же в результате всего этого «зверства»? — Наличие припухлости на лбу неизвестной природы и неизвестного срока получения!
Ссылка суда на обоснование своей позиции «множественности ударов» на наличие синяков в других частях тела (стр.10 Приговора), не состоятельна. Поскольку суд не изучал, не исследовал достоверность обстоятельств, связанных с получением этих ссадин и синяков, поскольку отнес их к ст.116 УК РФ, рассмотрение которой он закрыл за истечением срока давности. Акт освидетельствования, в котором указаны эти синяки (№ 2281 от 26.04.04) сам же суд признал недопустимым доказательством. Подсудимый последовательно утверждал, что данные «синяки» эта якобы «потерпевшая» сфабриковала. Каким конкретно образом она это сделала — нас не интересует — за 3 млн. рублей можно еще и не то сделать. Более того, приглашенный защитой специалист медик, установил, что расположение синяков на руках «потерпевшей» соответствует ситуации, когда ее кто-то пытался удержать за руки. А продольные царапины на ее шее соответствуют характерным следам от ногтей, и не соответствуют ситуации удушения, описанной «потерпевшей», при которой следы должны быть иными. Т. е., следы на шее она нанесла себе сама (поцарапала).
Факт 17: Суд не указал, в какой ситуации, от какого удара, «потерпевшая» получила сотрясение. Следовательно, говорить об умысле в данном случае не приходится: нельзя приписать умысел действиям, которые не конкретизированы.
Действительно, суд не конкретизирует место «преступления», указывая, что сотрясение могло быть получено в любой ситуации, описанной «потерпевшей», т. е. как в офисе, так и в большой или маленькой комнате их квартиры. Получается что, мало того, что дата и время сотрясения не установлены судом, так еще и место этого «сотрясения» не указано, — как в таких условиях можно считать выводы суда объективными и обоснованными?! Суд безусловно обязан был выяснить, когда же именно «потерпевшая» получила это якобы сотрясение и от какого конкретно удара. Если же это ему не удалось, то суд должен был снять обвинение.