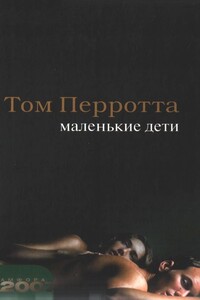Голубая спецовка | страница 34
Когда я злюсь, один парень, очень уж ревностный католик, старается успокоить меня, приучить к терпению: Томмазо, земная жизнь скоротечна, не поддавайся злобе. А я ему: черт побери, именно потому, что она скоротечна, мы должны прожить ее самым лучшим и справедливым образом!
Здесь гроши — там сдельщина, тут производительность — там выработка, доносчики и мастера повсюду. Однако все, что нас окружает, — наше, все куплено за наши деньги, и завод тоже построен на деньги, которые государство крадет из наших карманов, оставляя нам лишь прожиточный минимум.
Сколько прирожденных наушников и проверяльщиков на этом заводе! Мастера (их трое или четверо) и помощники мастера, начальник цеха и помощник начальника цеха, главный инженер и директор да еще вахтеры. Есть тут и здоровые, ростом с теленка, собаки, но они, к счастью, привязаны. Да, совсем забыл — в нескольких метрах от нашего цеха имеется еще один цех, и там тоже полно доносчиков, лизоблюдов, начальников и прочих тварей. И все следят за нами, все нас проверяют. Даже у стен есть уши.
С балкона поля не окинешь взглядом. Здесь все засажено виноградом, длинные шпалеры столовых сортов, — вот оно, богатство нашего края. Адельфию никакие перемены не тронули — ни жилищное строительство, ни связанная с ним спекуляция, — но я думаю, это ненадолго. Южные поселки, по крайней мере в старой их части, на редкость красивы. Здесь остались только женщины, дети и старики, но именно на них и держатся старые кварталы, узкие, извилистые улочки с высокими каменными заборами, с дворами, где выставлены кастрюли, метлы, бродят кошки и где на белых каменных стенках сушатся помидоры. Только иногда, словно по волшебству, встретишь здесь блондиночку или заметишь фигуру механика, одетого в спецовку, измазанную маслом и ржавчиной. А на пороге дома и над дверью — замшелые камни.
Теперь повсюду строят: у кладбищ, у заводов, вблизи от окружных дорог. Первый этаж выходит прямо на шоссе, и когда-нибудь в гостиную или в спальню въедет автомобиль.
Я бегу, посмотрели бы вы, как я бегу, — чувствую, что комок подкатывает мне к горлу, но бегу, бегу к своему станку; рано или поздно я извергну содержимое своего желудка на станок, на учетную карточку, на часы хронометриста в новеньком белом халате — издали он «словно распустившийся цветок боярышника»…
Сегодня ночью мне приснился деревенский дом моих стариков. Я будто бы сидел в большой комнате с толстыми циновками на полу. В воздухе сильно пахло гарью, а я сижу и вроде жду кого-то или чего-то, а вроде и нет. Вдруг на меня находит страх, и я иду в соседнюю комнату: здесь когда-то стояла большая железная кровать деда с бабкой; в углу, напротив зарешеченного, как в тюрьме, окна, возвышался комод, а на комоде — фигурка мадонны и коробка, постоянно наполненная иголками, пуговицами и окурками. Дальше — комнаты девочек (девочкам теперь под пятьдесят). Здесь на полу я спал рядом с теткой на набитых кукурузными листьями матрасах. Я боялся темноты, и тетка крепко прижимала меня к себе; за окном раздавались шорохи и шелест, а порой что-то постукивало в стекло. Хорошо, что на окнах были решетки, хорошо, что была тетушка, которая прижимала меня крепко-крепко: я такой маленький, а она такая большая, теплая. На столе мигал фитиль керосиновой лампы, а вокруг него сотнями кружились ночные бабочки. Фитиль был обычно прикручен, но когда в комнату вихрем врывался дядюшка, пропахший табаком, мятой и нафталином, он прибавлял света, и в комнате начинали плясать огромные тени.