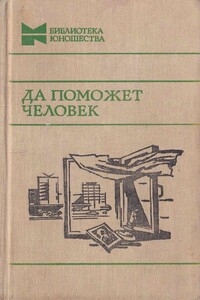У памяти свои законы | страница 75
— Так, — сказал я. — Значит, тебе нужно мое унижение?
— Вон оно что! — хмурясь, проговорил он и встал. — Тогда все. Разговор окончен. Продолжим на бюро.
— Давай адрес, черт с тобой, — сказал я, потянулся к письму, но Родионов положил его в стол.
— Нет, — сказал он. Шея его багровела.
— Ах вот как!
Я хлопнул дверью так, что даже невозмутимая Катя привскочила на стуле. Носком ботинка я задел край ковра в коридоре, он оторвался от гвоздей, на которых держался, и закрутился. Я пхнул его, дождался лифта и спустился вниз.
Мне курить хотелось, я пошарил по карманам, вспомнил, что забыл «Казбек» на столе у Родионова, и пошел искать табачный киоск. Я шел в толпе и сгорал от любви к этой толпе. Я обожал каждого встречного-поперечного. А когда увидел киоск и в нем толстую продавщицу, понял, что вся моя жизнь принадлежит ей. Я раб ее, она может хлестать меня своими толстыми лапами, а мой долг поклоняться ей и орать: «Обожаю». У нее был заплывший подбородок, огромные, как дыни, груди, пальцы толсты, как колбасные батоны. Она дышала, как пять доменных печей. Я обожал ее, ее дочерей, племянников и племянниц. Она отсчитывала мне сдачу, а я стоял, млея от преданности, покорнее дворового пса.
Ничего хорошего я уже не ждал от бюро. И не ошибся.
Меня высекли, как мальчишку. На этот раз высказался даже молчун Мясников со своим особым мнением, — у него всегда и по всякому поводу свое особое мнение. Я думал, он карьерист, думал, начнет подпевать Родионову, или запоет песенку на мотив «ни вашим, ни нашим», но ошибся. Он погулял дубинкой по моей спине, хорошо погулял, но и Родионова пощипал. Крепко пощипал — нашел у безгрешного тоже всякие грешки. Родионову это явно не понравилось, а мне понравилось, очень даже понравилось, хотя «особое мнение» Мясникова только подлило масла в огонь и меня начали сечь с еще большей энергией… Ох, как меня секли! Меня сек каждый как хотел. А мои доброжелатели… мои-то защитники… лепетали как дети. Статью признали правильной, меня же неправым по всем пунктам. И вынесли строгий выговор. А ко всем определениям — я чиновник, барин, хозяйчик, отставший от времени, — прибавилось новое: я мещанин. Самое смешное — я не стал защищаться. Я приготовил целую речь, но не произнес ее.
Я не злой человек. Не жестокий. Я даже, наверно, мягкий человек. Глупо меня убеждать в необходимости любви к человечеству, потому что я такой же великий гуманист, как и другие. И глупо с моей стороны доказывать это. Но я, наверно, стал бы все же доказывать, если бы не ощутил вдруг нечто, что было сильнее других чувств, сильнее обиды, злости, самолюбия: пустоту. Словно остановился я на краю пропасти, один, и увидел, что впереди — ничего, только неизвестность, темнота. Всю жизнь я знал, что нужен, что полезен, что здоров и силен, а тут будто пришла старость, пригнула к земле и словно вырвала что-то из меня, из самого сердца, и на душе стало пусто и холодно. Это страшно: я физически ощущал ее, эту зловещую зябкую пустоту. Мне совсем не сорок пять, мне на сто лет больше! Я вдруг понял — жизнь прожита. И в конце ее меня судят. Справедливо или нет — не важно, но меня судят. Не чествуют, а судят. Она прошла, жизнь, а я видел ли ее?..