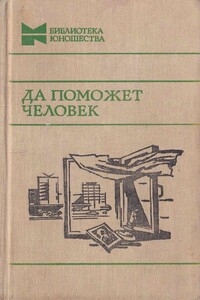У памяти свои законы | страница 7
Мясников что-то хотел мне возразить, но я прервал его. До завода мы доехали молча. И пока доехали, круги у меня пошли перед глазами, так она разболелась, голова. Я не стал подниматься в кабинет, я зашел сначала в нашу заводскую аптеку.
На стеклянном аптечном прилавке стояла табличка: «Ручнист». Рядом другая: «Рецептор». К «Ручнисту» тянулась очередь, и я встал в хвост: лезть без очереди в моем положении было бы сейчас глупо. Я стоял в очереди, устало смотрел на эти таблички: «Рецептор», «Ручнист», «Рецептор». Тщательно выведенные черной тушью, они нагло глазели на меня и торжествующе хохотали. Они оказались сильнее меня, они прочно стояли на своих местах. Еще полгода назад я впервые увидел их, когда вот так же забежал сюда, чтобы купить пирамидон. Я не борец за чистоту русского языка, у меня и других забот по горло, но эти тарабарские таблички возмутили меня. Мне казалось, я добился, чтобы их удалили, чтобы хоть на территории завода не было этой абракадабры. Но, оказывается, они живы, а я бессилен, я могу только смотреть на них с тупой злостью. Неужто смириться, неужто молча созерцать, как все, что я загнал в угол, все, что вымел, снова полезет на божий свет? Кто мне докажет, что мести грязь надо домашней щеткой, а не жесткой метлой? Никто мне этого не докажет.
Я стоял за старухой в деревенском платке. От платка пахло ее волосами, пахло так, как пахло когда-то от волос моей матери. Ее убило бомбой у калитки. Ни один дом не пострадал в нашем городке, единственная за всю войну бомба упала к нам во двор и убила мать.
Девушка, именуемая «ручнистом», узнала меня.
— Вам что? — спросила она, хотя моя очередь еще не подошла.
— Я постою, — ответил я, но люди обернулись, старуха сказала:
— Бери, бери, начальник, чего надо! — И я, взглянув на продавщицу, увидел в ее глазах странное какое-то выражение: так взрослый смотрит на ребенка — то ли с превосходством, то ли со снисходительным состраданием или усмешкой — и протянул деньги.
Она взяла их, передала мне пирамидон, и я ушел, жалея, что так получилось, потому что мне хотелось еще постоять за этой старухой, вдыхая запах волос своей матери.
В кабинете я с трудом отодрал скользкую целлофановую ленточку с пачки пирамидона, проглотил таблетку и сел за стол в свое кресло.
Я сел за стол, включил селектор, сказал: «Здравствуйте, товарищи», — и… потекла другая жизнь, где я не принадлежал себе. Все стало далеким: и газетная статья, и шамаевский звонок, и мое самолюбие, — все это будто забылось, будто обмельчало в одно мгновение. Иные заботы уже занимали меня. И так каждый день: едва я сажусь в свое кресло, как все второстепенное уходит от меня. В этом кресле я уже себе не принадлежу. Мои чувства тут не нужны.