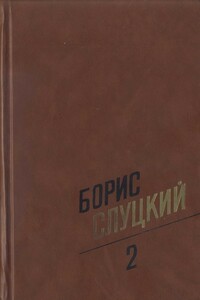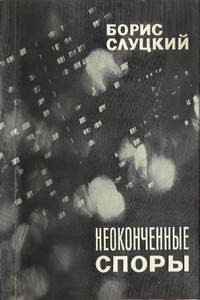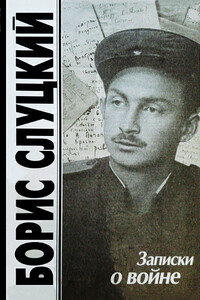Покуда над стихами плачут... | страница 8
В сборнике 1967 года (Борис Слуцкий. Современные истории) в последней строке слово «разве» заменено на «даже».
Логика редактора, вынудившего поэта пойти на эту замену, прозрачно ясна: ни при каких обстоятельствах советский человек не имеет права обижаться на народ, припоминать ему какие-то свои, хоть бы даже и совсем ничтожные обиды.
И вот — результат:
На такие жертвы ему приходилось идти постоянно.
Взять хотя бы вот это, одно из самых пронзительных его стихотворений:
В книге 1961 года (Борис Слуцкий. Сегодня) было выправлено так:
Советские парни девушек не лапают!
Благодаря этой поправке стихотворение тогда удалось спасти, «пустить в печать». Но неуловимый «дым-дымок» поэзии… Нет, он не отлетел совсем, не исчез, но теперь это был дым уже совсем другого качества. Как гласит пословица, «труба пониже — и дым пожиже».
Но для «спасения» стихотворения этого оказалось недостаточно.
На редакторский нюх что-то в нем, в этом стихотворении, было не то. Какой-то шел от него чужой запах:
От всего этого за версту несло «абстрактным гуманизмом». А еще явственнее — потрясавшим нас в послевоенные годы итальянским неореализмом.
Задать бы тогда (в 1961 году) читателям такую загадку — в духе популярных сегодняшних викторин:
О каком кинофильме говорится в этом стихотворении поэта? Выберите наиболее подходящий из предложенных ниже вариантов:
1. «Броненосец „Потемкин“»
2. «Кубанские казаки»
3. «Тарзан»
4. «Сто мужчин и одна девушка»
5. «Ночи Кабирии»
6. «Два гроша надежды»
Самые чуткие читатели наверняка выбрали бы какой-нибудь из двух последних вариантов. Менее чуткие, возможно, остановили бы свой выбор на «Тарзане». Совсем нечуткие — на «Кубанских казаках». Но вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову выбрать из этого списка давным-давно уже в то время забытый немой фильм Сергея Эйзенштейна.