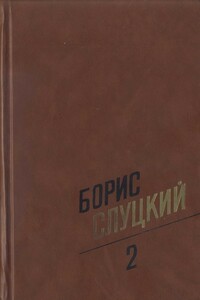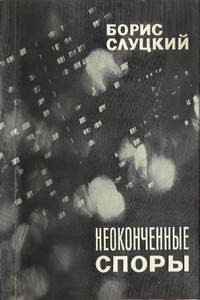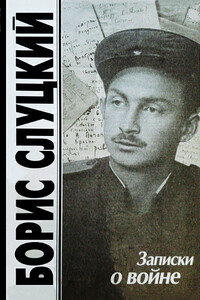Покуда над стихами плачут... | страница 16
Но стихотворение называется не «Комиссар», а «Комиссары». И смысл названия в том, что свою комиссарскую должность автор, комиссар двадцатого века, готов взвалить на себя целиком — не только со всем сопряженным с этой должностью риском, но и со всеми ее моральными издержками. Несмотря на явную непривлекательность описанных поэтом комиссарских трудов («Отпирай! Отворяй! Отмыкай! Вынимай!»), автор все-таки верит, что действует его комиссар «в честь труда и во имя свободы».
Слуцкий — не только в этом стихотворении, но и в нем тоже — предстает перед нами как субъект истории. Он ощущает себя одним из тех, кто делает историю, творит ее. И именно в этом (а не в том, что он просто «посетил» этот мир в его минуты роковые) состоит главная его жизненная удача. Не гостем, а хозяином был он на великом историческом пиршестве:
Стихи эти (в особенности строка «Не винтиками были мы. Мы были — электронами») при первом чтении вызвали у меня неудержимое желание сочинить на них пародию. Что я тогда же и осуществил:
Повод для пародии тут, конечно, был. И если говорить об исторической правоте, то автор пародии был к ней, наверно, ближе, чем автор пародируемого стихотворения. Но самоощущение, самосознание, выразившиеся в этом стихотворении Слуцкого, были истинными.
Другое дело, что после войны из «комиссаров» он был разжалован.
Это нашло отражение во многих его тогдашних стихах. Например, вот в этих:
«Комиссарами» теперь назначали людей совсем другого склада. Но он был комиссар не по назначению, не по должности, а по призванию. По складу характера и души. И расстаться с этим своим комиссарством, сбросить его, как сбросил военную гимнастерку, сменив ее на штатский пиджак, — не смог: