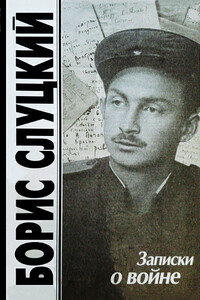Покуда над стихами плачут... | страница 11
Такие мысли, я думаю, его посещали.
В начальных строках другого тогдашнего своего стихотворения он даже прямо дал понять, что не исключает такую возможность:
Стихотворение о том, что «все — пропаганда, весь мир — пропаганда», безусловно, принадлежало к той категории стихов, которые тогда, в 1957 году, когда они были написаны, надо еще было — до поры — прятать вот в этот самый «дальний ящик». Напечатано же оно было лишь тридцать лет спустя, став одной из первых ласточек только-только забрезжившего нового нашего, бесцензурного бытия («Знамя», 1989, № 3).
А «Покуда над стихами плачут…» Борису удалось опубликовать при жизни («Юность», 1965, № 2). Разумеется, не в том виде, в каком оно родилось на свет: в печатном варианте из него выпала целая строфа, а начальные строки пришлось изменить, исправить.
Поправкой этой он, правда, не был особенно удручен. Как будто бы даже наоборот: был ею доволен.
Помню, как он прочитал мне — на ходу, когда мы гуляли по нашей Аэропортовской, даже место помню — этот новый, исправленный, «кошерный» вариант:
Остановился, взглянул на меня победительно и с некоторым даже самодовольством подытожил:
— И не испортил!
На самом деле, конечно, испортил. Во всяком случае, подпортил.
Новый, исправленный вариант действительно легче, гармоничнее первого. Первый — грубее, жестче, прямолинейнее. Но учитель Слуцкого Маяковский в таких случаях говорил: «Я люблю до конца сказать, кто сволочь!» И Борис это коренное свойство поэтики учителя унаследовал.
Впрочем, случалось мне и от некоторых поклонников Слуцкого, пылких ценителей этой самой его поэтики, слышать, что новый, исправленный вариант нравится им больше первоначального. Но я — решительный сторонник первоначального. И с ним у меня даже связано одно из самых горьких и тяжелых моих воспоминаний.
Когда мы хоронили Бориса, после всех речей, отзвучавших в жалком ритуальном зале больничного морга, поехали в крематорий. И тут, у гроба, установленного на специальном крематорском подиуме, начались новые речи.
Все говорили примерно одно и то же, и слушать это было невыносимо.
Но вот уже и тут отговорили все, кто хотел. И Владимир Огнев, ведущий этого траурного митинга, уже собрался произнести какие-то последние, заключительные слова. Но взглянул на меня — и что-то, видимо, прочел на моем лице. И безмолвно, одними глазами спросил: «Хочешь?»