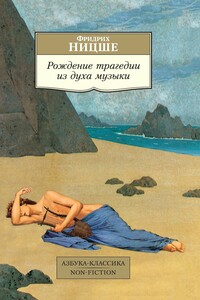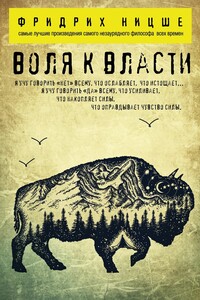Ecce liber. Опыт ницшеанской апологии | страница 67
Так, мифотема Фридриха Ницше есть миф о воле к мощи. Этот миф проходит немало фаз-образов. Через отрицательный образ сократического человека, перевоплотившегося в христианина-раба, через образы Сверхчеловека — Антихриста — Заратустру — Диониса — антиморалиста — злобного человека — нового Философа воплощается этот миф. И три произведения суть три фазы этого мифа, вершинные точки духа Ницше: 1. “Рождение трагедии из духа музыки” (Аполлон и Дионис). 2. “Так говорил Заратустра”. 3. “Воля к мощи”. Все прочее, что написал Ницше, есть прелюдии и комментарии — до и после, миф един”. Что ж, редкий философ может похвастать такой внутренней связанностью и целостностью своего “трудового пути”.
Это идейно-тематическое единство адекватно выражено текстологически. Ницше неоднократно свидетельствует, что изначально понимал все свое творчество как единое целое. В самом деле, начиная с “Рождения...” и вплоть до “Ecce...” мы имеем дело с одним непрерывным мегатекстом, одной “Большой Книгой”, из которой он словно вырывал страницы и публиковал их в виде отдельных произведений. Эта отдельность не должна создавать иллюзию их самодостаточности. Ницше художественно выстраивал не только каждое произведение, но и также скрупулезно и художественно создавал весь “оркестр” своих работ в целом. В этом целостном комплексе мегатекста нет случайных произведений: все связаны друг с другом в сложном ансамбле, который закономерно венчает «Воля к власти».
Целостность ницшевского Мегатекста доказывается еще и тем, что за исключением, пожалуй, лишь “Рождения трагедии” любое из его произведений можно продолжить. Известно, что спустя длительное время он добавлял новые части к уже написанным работа (например, к “Веселой науке”), а к “Заратустре” планировал написать продолжение. К тому же ницшевский Мегатекст как бы двоится: Ницше писал больше, чем публиковал в виде отдельных произведений. Каждое из них — своего рода ядро, вокруг которого клубится туманность неопубликованных фрагментов. Такой подосновой, подземной рекой, своего рода прототекстом-планктоном последнего этапа выступает весь корпус “Воли к власти”, который предстает как обширный комментарий ко всему творчеству Ницше, написанный им самим.
По существу “Воля к власти” структурно — модель всего ницшеанства. Она воспроизводит асистемную целостность ницшевского мира. Нас сбивает с толку то, что асистемная целостность не редуцируется к какому-то единому началу. Она претит нашей закоренелой воле к системе, о которой сам Ницше в одном из многочисленных предисловий (лето 1888 г.) напишет: “В моральных терминах воля к системе у философа является наиболее утонченной коррупцией, болезнью характера, а в терминах неморальных волен предстать глупее, чем он есть на самом деле. Глупее означает: сильней, проще, более навязчивым, некультурным, авторитарным, более тираничным...”1