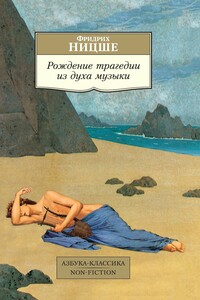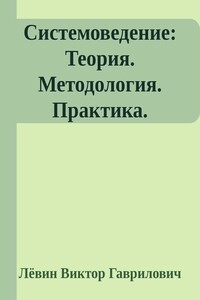Ecce liber. Опыт ницшеанской апологии | страница 52
.
Итак, кажется, мы пришли к отгадке одной из величайших загадок Ницше: как мыслитель, не имеющий себе равных (возможно, за исключением Достоевского) в отвержении всякой идеологии и политической практики растворения личности в мега-организме коллективности, в упразднении индивидуальных различий, был при этом страстным певцом дионисийского снятия индивидуальности? Но разгадка проста: если личность деградирует и растворяется в стаде, то Ницше категорически против. Другое дело, если речь идет о прорыве творцов к сверхсознанию сверхчеловеков.
Именно этот страстный порыв Ницше к освобождению до сих пор очаровывает левых теоретиков и делает ницшеанство вполне конкурентоспособным с марксизмом. Но это очарование длится недолго, до тех пор, пока не становится ясно, что ницшеанский проект освобождения предельно элитарен: Ницше исходил из того, что все люди в принципе не могут освободиться, то есть прорваться до уровня сверхчеловека. Структурную ситуацию целой исторической эпохи, когда подавляющее большинство человечества находилось в угнетенном и униженном состоянии, он экстраполировал на бескрайнее будущее. Лишь немногие – те, кого он называл сверхлюдьми – способны прорваться за пределы парадигмы ресентимента. Рабы же в лучшем случае способны лишь составить тоталитарное стадо существ без свойств. Именно этот элитаризм освобождения больше всего шокировал левых (как будто марксизм нес весть об освобождении всех, не исключая буржуазии!)
Чем больше размышляешь об освободительной стратегии Ницше, тем очевидней вторичность роли жестокости и насилия. Ницше по большому счету неважно, действует ли человек жестоко или нет. Главное – чтобы он не действовал из мести. Философ жестокости проповедует, прежде всего, жестокость по отношению к себе, как силу самопреодоления. Для него раб – тот, кто будет искать освобождения за счет другого. В этом суть низкого дионисийства. Поэтому жестокость и насилие не могут быть инструментами освобождения: тот, кто ненавидит чужую кровь или презирает ее, не является еще индивидом, а есть нечто вроде человеческой протоплазмы. В итоге тоталитарная практика насилия дает лишь иллюзию освобождения. Плебейская революция «обезьян Заратустры» на самом же деле блокирует действительный сброс ресентимента: только личностный рост, только индивидуальное преодоление духа мщения открывает тяжкий путь к сверхчеловечеству. Ницше исходит из того, что стадом люди не пройдут по канату, натянутому между «последними людьми» и сверхчеловеком. Этот канат неизбежно разорвется, и те, кто шел по нему, неизбежно падут в бездну мстительности и коллективной безответственности. Вместо восхождения к сверхчеловеку в бездне их поджидают фюрер или вождь. Это чрезвычайно тонко подметил Николай Бердяев: «В жесткой фигуре Гитлера замена Бога волей к могуществу германской расы дает другие плоды. Вокруг Гитлера собираются не аристократы духа, как хотел Ницше, а худшие, подонки, parvenu, люди ressentiment, дышащие злобой и местью».