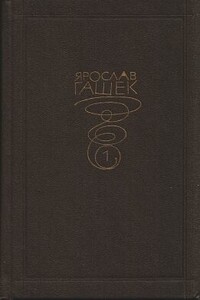Тренинги свободы | страница 78
Первые пятнадцать лет моей жизни, пока я знал по-немецки всего-навсего несколько слов, у меня, когда я слышал немецкую речь, каждый раз возникало такое чувство, будто эти люди, по какой-то неведомой причине, постоянно крайне встревожены или возмущены чем-то. Видимо, я вслушивался в другой язык с позиции звучания собственного языка. Не стану утверждать, будто этот чужой язык был лишен в моем восприятии музыкальности; однако, по сравнению с моим родным языком, его музыка была в любом случае более тяжелой и мрачной, изобиловала энергичными всплесками, окрашена была каким-то глухим рокотом. Она словно доносилась из глубины огромного сумрачного леса. Попробуй я переложить это услышанное когда-то звучание для оркестра, мне, очевидно, пришлось бы убрать из оркестра смычковые инструменты, в нем были бы клавикорды, но не было бы рояля, тон задавали бы духовые инструменты с низким звучанием и ударные, однако треугольник, например, не прозвучал бы ни разу, потому что тут, в этом языке, нет таких кратких, пронзительных звонов. В конце концов, наши уши, нос, глаза, мозг выполняют ведь очень примитивную работу: отыскивают тождества, подобия, отличия. Физические свойства другого языка я определяю, сравнивая их с физическими свойствами собственного языка. Мы живем в ужасающем рабстве. Мы прикованы цепями к такому утесу, относительно размеров и природы которого у нас имеются скорее образы, чем понятия.
Собственно говоря, в этом вопросе хорошо было бы послушать того пятнадцатилетнего мальчика, чье сознание затронуто тонким воздействием различных разновидностей расизма, — мальчика, которым я уже давным-давно не являюсь. Он сообщил бы нам, что Германия — это запах. Запах какого-то необычного дезинфицирующего средства. О немецком же языке он сказал бы, что язык этот — сплошное недовольство, сплошное возмущение. Но с тех пор как я разобрался и усвоил, по каким хитроумных правилам немцы связывают в одну фразу три слова, далеко отстоящие друг от друга, чужие друг другу, — мне все же удалось немного ослабить цепи и проникнуть хотя бы на ту нейтральную полосу, что лежит между двумя языками. Ich bin da. Itt vagyok (я тут). Один Зевес способен понять, почему у немцев три слова там, где у венгров — всего два. И если такое чудо все же произойдет и объяснение будет найдено, то кто, какой человек одинаковым образом поймет две эти фразы? Неужто я стал немцем? Если бы Гердер, или Гумбольдт, или сантехник Хомола были правы, то разве подобное маленькое чудо произошло бы с кем-нибудь?