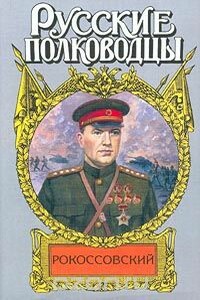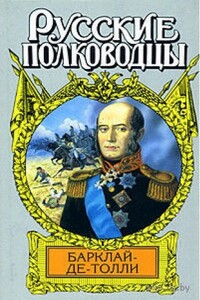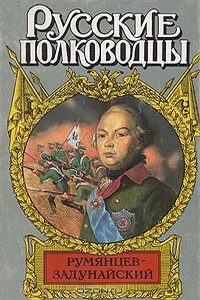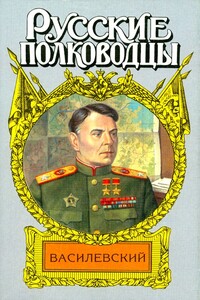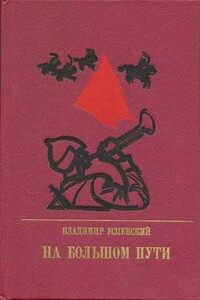Брусилов | страница 88
XIX
После обеда, в номере, генерал зажег электричество, поставил на спиртовку кофе, достал со дна платяного шкафа бутылку бенедиктина.
— От мирных дней… припас… до случая…
Суетливость в нем исчезла. Ушла вместе с парадным хаки, повешенным в шкап, и наигранная моложавость, но засветилась настоящая молодость в подобревших глазах.
Он подошел к окну задернуть портьеры и вскрикнул:
— Ай-яй! Вот те на! Снежок! Снег… Это уже в третий раз. Значит, накрепко… зима!
Игорь положил на похудевшее его плечо руку, повторил вслед за ним:
— Зима…
Они постояли минутку в молчании, задернули шторы, которые долго не хотели задергиваться (отец и сын тянули одновременно за оба шнура, отец чертыхался, сын посмеивался), потом вернулись к столу, пили из тоненьких японских чашечек кофе с ликером.
— Ты помнишь? — спросил отец. — Я их привез из Маньчжурии, после японской…
— Помню, конечно… А это? — Игорь кивнул на стену. — Последний Иринин?
— Да как же!.. Разве не при тебе? Она плясала русскую… Как плясала! — Генерал закивал головой, причмокнул языком, вскочил, снял со стены рамку, поднес ее к свету лампы. — Ты посмотри, до чего хороша! Какой поворот! Какая ножка!
— Очень хороша, — согласился Игорь, вспоминая, что уже когда-то слышал от отца эти же самые слова, и радуясь услышать их снова, но по-новому. — Ты не волнуйся, папа, — тотчас же добавил он, угадывая, какие чувства сейчас тревожат отца, — она ведь лентяйка… ты знаешь… мы все не любим писать письма, но она очень, я знаю, очень тебя…
— Да, она сокровище, — обрадованно и стыдливо перебил его отец и аккуратно повесил рамку на прежнее место.
И тут пришла минута, которую никогда не переживал Игорь.
Душа его легко, без принуждения, без видимого и намеренного повода раскрылась перед отцом. Слова сами сорвались с языка, опередили сознание, возникла необходимость говорить, исповедаться, исчерпать все, что помнилось, чем жил…
Никанор Иванович сидел неподвижно, поставив локоть на ручку кресла, ладонью подперев щеку, полузакрыв глаза. Он боялся взглянуть на сына, потревожить его. Худое старое тело его напряглось, сердце билось неровно, это он, а не сын проверял, взвешивал каждое слово, звучавшее в его ушах. Исповедовался не сын, а он, старый генерал Смолич. Ответ должен держать он, Никанор Иванович. И он же обязан вынести приговор себе, сыну. Для него тоже пришла минута глубокого раздумья, итога. Минута, какой он никогда еще не знал…
Так они сидели друг перед другом — отец и сын; над столом горела электрическая лампа со стандартным гостиничным колпаком, засиженным мухами, перед ними на столе стояли крохотные чашечки с недопитым кофе и ликер в рюмках, и за окном шел тихий снег, снежок. Неподалеку, в штабе, работали над планами войны, и далеко скрежетала война… Все шло, как много Дней идет — вот уже полтора года…