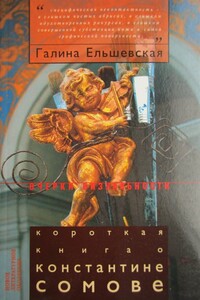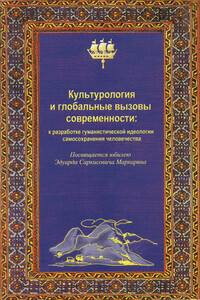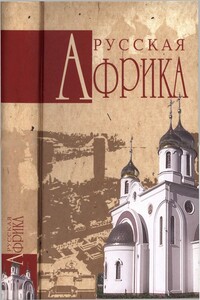Голос как культурный феномен | страница 53
Лишь немногие русские писатели обратили внимание на опасную пустоту, вызываемую магией голоса. В «Очарованном страннике» князь влюбляется в голос цыганки, с которым он соединяет некую идеальную возлюбленную (и платит за нее табору огромную сумму), но быстро устает от реальной женщины, ставшей его любовницей, что ведет к драматическим последствиям. Голос лишь иллюзия личности. Но на выпадение Лескова из русской традиции обычно не обращают внимания.
В позднем русском романе, в «Петербурге» (1916) Андрея Белого, мать героя убегает с итальянским певцом (!). Описание южного страстного голоса дано с массой не имеющих отношения к звучанию подробностей, которые должны произвести отталкивающее впечатление немытого, вонючего, насекомообразного (и невидимого!) тела: он «был совершенно надорванный, невозможно крикливый и сладкий; и при этом: голос был с недопустимым акцентом. На заре двадцатого века так петь невозможно: просто как-то бесстыдно ‹…› Александру Ивановичу померещилось, что поющий – сладострастный, жгучий брюнет; брюнет – непременно; у него такая вот впалая грудь, провалившаяся между плеч, и такие вот глаза совершенного таракана; может быть, он чахоточный; и, вероятно, южанин: одессит или даже – болгарин из Варны (пожалуй, так будет лучше); ходит он в не совсем опрятном белье; пропагандирует что-нибудь, ненавидит деревню»[173].
Русская литература далека от фетишизации голоса и не находит для него метафорического сюжета. Мотивы эротической власти и колеблющейся сексуальности, парадоксальной обратимости живого/мертвого, механического/иллюзорного не образуют прочных ассоциаций с голосом. Немногие исключения из этой традиции – два поздних рассказа Тургенева и пьеса еврейского автора и этнолога Ан-ского «Диббук».