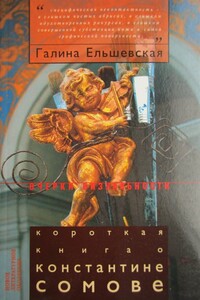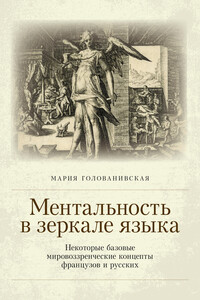Голос как культурный феномен | страница 52
Толстой повторяет тургеневские характеристики национального голоса: необученный, необработанный, неправильный, природный, чарующий и – сексуально определенный[169]. Для того чтобы оттенить это «русское ухо», я хочу напомнить пассаж из «Консуэло» с проповедью учителя, обращенной к антиподу Консуэло, тенору Андзалетто: «У тебя есть только техника и легкость. Изображая страсть, ты остаешься холодным. Ты воркуешь и чирикаешь подобно хорошеньким, кокетливым девицам, которым прощают плохое пение ради их жеманства. Ты не умеешь фразировать, у тебя плохое произношение, вульгарный выговор, фальшивый, пошлый стиль. Однако не отчаивайся: хотя у тебя есть все эти недостатки, но есть и то, с помощью чего ты можешь их преодолеть. Ты обладаешь качествами, которые не зависят ни от обучения, ни от работы! в тебе есть то, чего не в силах у тебя отнять ни дурные советы, ни дурные примеры: у тебя есть божественный огонь… гениальность!.. Но, увы, огню этому не суждено озарить ничего великого, талант твой будет бесплоден»[170]. Голос внутри этого понимания – не только и не столько явление природы и таланта, сколько культивирования, воспитания, образования и тренировки. Только тогда он достигает высшего артистизма и вызывает иную – профессиональную – реакцию понимающего ценителя: «одобрительный шепот любителей, удивленных мощностью тембра его голоса и легкостью вокализации». Простота, которую требует профессор, не означает отказа от «блеска, изысканности и изощренности». Это высшая степень умения[171].
Подчеркивание прелести необработанного природного голоса (неровного, нервного, разбитого) становится постоянным мотивом русской литературы, возвращаясь в самых разных произведениях вновь и вновь. То, что Толстой ценил неискусное пение и предпочитал природный голос Вари Паниной итальянской опере (так же как Николай Лесков, оставивший наиболее знаменитое описание цыганского пения в «Очарованном страннике», 1872–1873