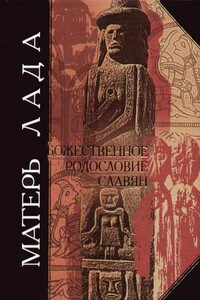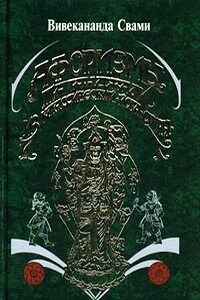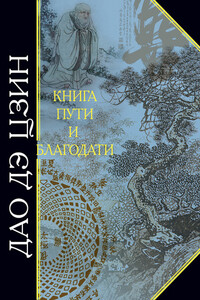Голубиная книга. Славянская космогония | страница 4
По языческим понятиям, не было ничего плохого в том, чтобы наряду со своими богами почитать еще и чужих (например, греческого Христа) или отождествлять своих богов с чужими, лишь бы не отступаться полностью от веры отцов и сохранять уважение к ней. Христианство же видело в этом «двоеверие», явление худшее, чем само язычество. Тем более что дело здесь было вовсе не в плохом знании христианства. «Не токмо же то творят невежи, но и вежи Попове и книжници», — с возмущением писал о почитателях Перуна и Даждьбога анонимный средневековый автор — «христолюбец и ревнитель по правой вере». Гениальный автор «Слова о полку Игореве», пронизанного языческим мировоззрением, вовсе не был врагом христианства: «поганый» у него — ругательство, прилагаемое к внешним врагам Руси. Тем временем в глухих лесах по Збручу все еще стояли священные языческие города, просуществовавшие до самого татарского нашествия, и галицкие князья не пытались устроить против них крестовый поход. В эту эпоху и жил один из «веж попов и книжников», знаток «глубинных книг» — Авраамий Смоленский (ок.1146–1219).
Авраамий происходил из знатной и богатой семьи. Отец его был приближен к князю. Сын, с детства больше всего любивший книги и церковное пение, после смерти родителей раздал имущество беднякам и ушел в монастырь. Начитанный, скромный и послушный монах, став священником, приобрел невероятную популярность в городе как проповедник и учитель. И вдруг на него ополчилось все смоленское духовенство. Авраамия схватили и потащили на суд, призывая сжечь, утопить или распять на стене опасного «еретика». Единственным обвинением было чтение «глубинных [голубиных] книг». Смоленские «христолюбцы» готовы были дойти до глумления над Распятием. Однако на сторону Авраамия встали князь и светская знать. Хотя княжеский суд оправдал вольнодумца, Авраамия изгнали из города. Но вскоре случилась сильная засуха. Епископ тщетно правил молебны. В таких случаях, бывало, владык сгоняли с престолов. И архиерей взмолился к гонимому им «еретику» о прощении. После молитвы Авраамия засуха прекратилась, и он предстал в глазах народа могущественным святым. Умер Авраамий игуменом своего монастыря.
Так что же было в таинственных книгах, известных Авраамию? М. Л. Серяков убедительно доказывает: языческий текст «Голубиной книги», восходящий к общеиндоевропейской древности, существовал уже тогда, когда вещий Олег назвал Киев «матерью городов русских» (в стихе мать городам — Иерусалим, но мать землям — Святорусская земля). И христианизация текста началась уже в конце X–XI вв., когда святым покровителем Руси считался римский Папа Климент, умерший в ссылке в Херсонесе. С XII в. его в этой роли вытеснил св. Андрей. Загадочная книга «Глубина», поначалу терпимая Церковью, существовала уже в XI в. (упоминается в «Изборнике» Святослава 1073 г.). Вполне вероятно поэтому, что именно Авраамий Смоленский и придал «Голубиной книге» тот вид, в котором ее сохранили духовные стихи.