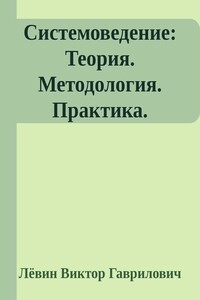Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика, 1997-2015 | страница 74
И.С.: Провоцируешь? Я все три учения считаю выдающимися.
А.П.: Для меня они образцы отупения.
И.С.: Они, Саша, перевернули общечеловеческую культуру, заняв место в людских умах поверх локальных культурных вариантов. Поэтому мы вправе назвать их гениальными. Гений — абсолютность историчности, которая, как внезапно выясняется при его явлении, может воплотить себя в каком-нибудь карбункулезном еврее из Трира, «в одной, отдельно взятой» личности, иначе говоря, где угодно среди людей. Автодидакт Прудон и молокоторговец Макс Штирнер могли бы послужить хорошими примерами в этом ряду. Кстати, некоторые русские революционеры тоже гениальны, потому что сквозь них проглядывает все та же абсолютность историчности. Когда Ткачев писал о том, что у революции в России нет объективной опоры, а производить ее все-таки нужно, он выступал в качестве человека, сосредоточившего в себе само социокультурное время, «изменчивость во что бы то ни стало».
А.П.: Ткачев и Жаботинский были абсолютными революционерами, и Ленин тоже.
И.С.: Гений — революционер.
А.П.: Игорь, ты начинаешь бессмысленную подстановку.
И.С.: Не бессмысленную подстановку, а сугубо человеческую. Человек…
А.П.: …всегда замещает одну бессмыслицу другой. Понимаю.
И.С.: Да, мы заняты субституированием, потому что мы — в истории. Или в обратном порядке, как ты хочешь. Кроме истории, вообще-то ничего у нас более нет. Избежать ее, начав ремонтировать собственный дом сразу после того, как он только что был возведен, нельзя: когда-нибудь строение все равно снесут. Тот, кто исключает себя из истории, остается один на один с собой, но себя не видит, потому что для авторефлексии необходим какой-то сдвиг в «я»: пусть минимальная, пусть только личностная, но все же история. Но нам здесь не сойтись. Давай закончим с Америкой. Она идеальный объект — для других. Но как таковая она — идеальный субъект, возникающий в результате имитаций, которые как бы устраняют тело подражателя, не давая, однако, ничего взамен чужого тела, лишь копируемого, остающегося отчужденным от «я». В этом зазоре между — теряемым своим и на деле не обретаемым чужим — телами и гнездится ничем не сдерживаемая, не ведающая своих соматических контуров субъективность, которая достигает вселенских масштабов. Идеальный субъект покушается на то, чтобы быть омнипрезентным, включать себя в любую чужежизненную, как ты бы сказал, конкретность. Русское обезьянничанье не достигает американского совершенства. То ли мы европейцы, то ли сами по себе. В какой истории нам быть? В той, которую мы заимствуем? Или в иной — в доотрепьевской, допетровской? Если меня поскрести, Саша, то найдешь вовсе не татарина, о котором ты мне почему-то запрещаешь высказываться, но нечто апофатическое, невообразимое, не имеющее ни самотождественности, ни тождественности с Другим. Мне приходится уповать только на историю, которая ведь тем и увлечена, что всех лишает идентичности. Я несколько перекраиваю Чаадаева. Из этой неясности, из вопроса «кто же мы», произрастает весь русский цинизм, наша безудержная автоирония, наша непонятная иноплеменникам склонность к самоосмеянию, которой я очень дорожу.