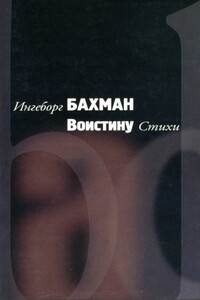Малина | страница 100
В большой опере, сочинении моего отца, я должна исполнять главную роль, таково, говорят, желание директора театра, о котором он уже всех оповестил, ведь в этом случае, утверждает директор, публика хлынет толпой, и журналисты утверждают то же самое. Они ждут с блокнотами в руках, я должна сказать несколько слов о моем отце, а также о роли, которой я не знаю. Директор сам напяливает на меня костюм, а поскольку сшит он для кого-то другого, то этот господин собственноручно закалывает его на мне булавками, которые царапают мне кожу, — он так неловок. Журналистам я говорю: «Я совершенно ничего не знаю, пожалуйста, обратитесь к моему отцу, я же ничего не знаю, эта роль не для меня, это делается только ради того, чтобы хлынула публика!» Но журналисты записывают что-то совсем другое, а у меня уже нет времени кричать и рвать их листки, ведь осталась всего минута до выхода на сцену, и я в отчаянии, с криками, бегаю по всему театру. Либретто нигде не найти, а я едва помню две первые реплики, это не моя роль. Музыка мне хорошо знакома, о, я ее знаю, эту музыку, но я не знаю слов, я не могу исполнять эту роль, никогда не смогу, и, отчаявшись, я спрашиваю директорского помощника, как звучит первая фраза первого дуэта, который я должна петь с одним молодым человеком. Помощник и все остальные загадочно улыбаются, они знают нечто такое, чего не знаю я, так что же все они знают? У меня возникает одно подозрение, но занавес поднимается, а внизу, в зале — море голов, публика-таки хлынула толпой; с отчаянья я начинаю петь первое, что взбрело мне на ум, я пою: «Кто придет мне на помощь, кто на помощь придет!» Я знаю, так этот текст звучать не может, но все же замечаю, что музыка заглушает эти мои отчаянные слова. На сцене полно народу, одни понимающе молчат, другие приглушенно поют, когда им дают вступление, какой-то молодой человек поет уверенно и громко, иногда он торопливо и по секрету советуется со мной; я понимаю, что в нашем с ним дуэте все равно должен быть слышен только его голос, ведь отец написал лишь его партию, а мою, разумеется, нет, — у меня нет должной подготовки, и меня надо только показывать. Петь я должна лишь для того, чтобы притекли деньги, и я не выбиваюсь из роли, хотя это не моя роль, и пою ради спасения жизни, чтобы отец не причинил мне зла: «Кто придет мне на помощь!» Потом я забываю эту роль, забываю и то, что не получила подготовки, и под конец, хотя занавес уже упал и можно подбивать итог, пою по-настоящему, но совсем из другой оперы; и я слышу, как мой голос разносится по пустому зданию, взбираясь на высочайшие высоты и опускаясь до глубочайших низов: «Так примем Смерть мы…» Молодой человек пасует, этой роли он не знает, но я продолжаю петь: «Все погибло! Все мертво!» Молодой человек уходит, я на сцене одна, они выключают свет и оставляют меня в полном одиночестве, в дурацком костюме с булавками. «О взгляните! Видно вам?» И с горестной протяжной жалобой я лечу и с этого острова, и из этой оперы, все еще продолжая петь: «Так примем Смерть мы, Смерть одну…»